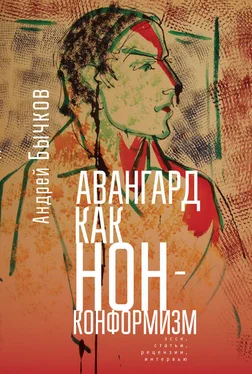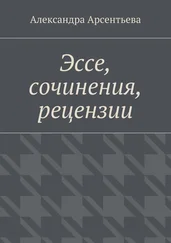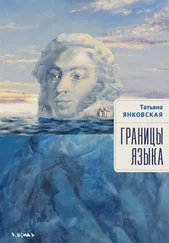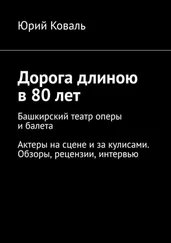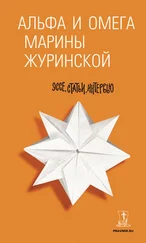Ты спрашиваешь о действенном живом концепте, способном оградить нас от смерти. Однако для меня твой вопрос предельно наивен. Не кажется ли тебе, что наше отчаянное положение дел есть результат постоянного забвения феномена смерти в культуре?.. Убегая от неё наутёк, мы теперь вынуждены уживаться с теми формами забвения смерти посредством литературы и философии, которыми пользовались на протяжении всей нашей цивилизации? Кругом – одна мертвечина: и литература, и мифология, и наука, и философия – тому яркие примеры. Обрати внимание и на то, что все ухищрения по приручению смерти – от традиционной религии до инновационной медицины – выдыхаются вместе с культурными механизмами; все они дышат на ладан. И у нас, смертных, ничего другого не остаётся, кроме как кичиться своей смертностью друг перед другом (Ницше). А теперь представь, что и смерть – иллюзия, но не в смысле языковой уловки в духе Эпикура, а при том скандальном положении дел, будто смерть не доказана как смерть, если мы, чёрт побери, живём в симуляции – самой лучшей из возможных Матриц… Правда, и здесь не всё так просто: например, российский физик А. В. Юров, размышляя над универсальным аргументом «судного дня» (doomsday), скрещенным с симуляционным аргументом шведского философа-футуролога Н. Бострома, считает, что можно существенно увеличить апостериорные вероятности нашего узничества в Матрице. Ты ведь тоже по образованию физик. Что бы ты мог как физик ответить себе как лирику на поставленный мною вопрос?
Андрей БЫЧКОВ.Я не скрываю своей наивности в ответах на столь сложные вопросы. Я думаю, что никто не знает до конца, что такое смерть. И, однако, каждый из нас знает о ее присутствии. И каждый из нас сталкивался с ее проявлениями. Конечно, современная культура предпочитает вытеснять ее в виртуальные измерения. На наших улицах уже не слышны похоронные оркестры, гробы с простыми покойниками уже не принято ставить открыто для прощания у подъездов домов. Зато вот телевидение постоянно показывает нам кадры разрушения и смертей. А в фейсбуке мы узнаем о кончине знакомых и незнакомых нам людей гораздо чаще, чем раньше; но этим и ограничиваемся. Представить себе, что смерть – это иллюзия, можно, но это не отвечает моему экзистенциальному чувству. Хотя я понимаю, что это и есть радикальный ответ на мой наивный вопрос о действенном концепте «приручения смерти». Я мог бы развить спекулятивный ответ на твой вопрос, но тогда я бы скорее выстраивал мысль наоборот, в сторону уменьшения апостериорных вероятностей нашего «пребывания в симуляции». Но я думаю (и чувствую), что феномен смерти настолько фундаментален, что его невозможно «симулировать». Что здесь скорее стоит говорить об иллюзии скандала. Хотя ты прав, современная культура, в особенности, массовая, только этим и занимается, и оттого все больше отдает мертвечиной. Современная культура упрощает этот феномен или до идеи простого исчезновения, или сводит к теме реинкарнации, которая при этом опошляется до какого-то элементарного операционного действия. Мне кажется, это все от того, что мы оказались неспособны справиться с глубиной осмысления этих проблем посредством одной лишь рациональности. Может быть, искусству и литературе с присущими им нестрогим стилем «мышления» и «проще» обращаться к подобным темам. Но живой для меня здесь остается только классика. Так рассказ Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» всегда был и остается откровением. И ничего более глубокого о смерти я, наверное, и не читал – ничего, что бы меня так глубоко поразило… Должен сознаться – я в последнее время как-то слишком много думаю о смерти, вернее даже не думаю, а как-то странно начинаю все больше ее присутствие ощущать. Она врывается в мои рассказы и романы, когда я этого совсем и не хочу. Я словно бы приношу ей какую-то обязательную дань, откупаюсь от нее, жертвуя собой через литературного героя. Часто я стал ловить себя на каком-то странном фантазме «невозможного-но-умирания» – все ближе и ближе эта неизвестная граница. И она реальна. Но от мучительного осознания этой реальности только и открывается вся глубина и жизненность настоящей подлинной культуры. В литературе одним из последних столпов здесь для меня остается, наверное, Кафка. Это какое-то странное «отсутствие в присутствии», «доказательство», что смерть не где-то «там», а что она всегда «здесь». Тот же Беккет уже во многом играет со смертью как с концептом, такая вот «первая подлинная игра», что оборачивается озабоченностью молчанием в языке и его знаменитым «методом вычитания». Но, быть может, только здесь вот, в такой ситуации, и возможен какой-то «новый» наивный скачок, а не апостериорное развитие? Вопрос только куда скакнуть… Где и чему мы еще можем сказать «да» согласно ницшевскому завету о «вечном возвращении»? Или дискурс о смерти (в нашем случае – литературы и философии, автора и читателя) – остается единственно актуальной формой жизни?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу