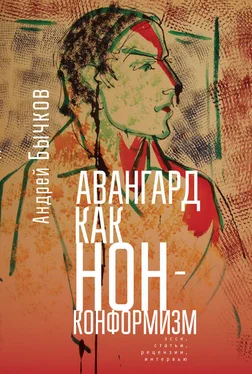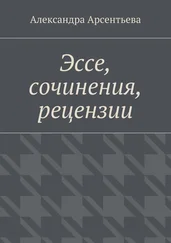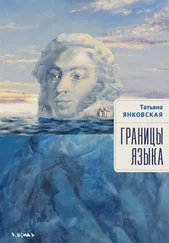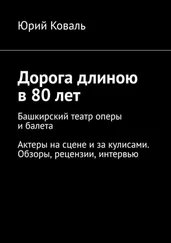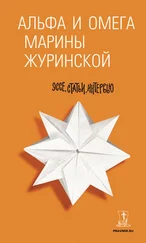В своей работе «Что такое философия?» Делез и Гваттари разделяют и обособляют мыслительный план художника от мыслительных планов философа и ученого. Они пишут, что эти «три вида мысли пересекаются, переплетаются, но без всякого синтеза или взаимоотождествления». Однако «между этими планами может образовываться плотная ткань соответствий». Классическая русская литература представляет собой, пожалуй, наиболее яркий пример таких соответствий и в каком-то смысле даже резонирующих синтезов, ведь она репрезентировала собой также и русскую религиозную философию. Наиболее ярким примером является, конечно же, творчество Федора Михайловича Достоевского. Но в контексте этой небольшой статьи мне было бы сподручнее опереться на фигуру Льва Толстого. Я хотел бы обратиться к последнему периоду его творчества. Мировоззрение писателя претерпевает здесь довольно странную метаморфозу. Зрелый Толстой начинает разочаровываться в гражданских институтах, отрицать роль государства, у него возникают конфликты с Церковью. Этот отказ от социальности, давно уже назревавший в его душе, проявлял себя и раньше, но теперь эти настроения становятся доминирующими.
Возьмем, к примеру, повесть «Смерть Ивана Ильича», где, собственно, социальное в лице члена Судебной палаты Ивана Ильича Головина и умирает. В этом произведении по-прежнему резонируют оба плана мысли – художественной и философской. Последний представлен здесь столь важным для русской православной религиозности концептом умирания и смерти. Есть, кстати, и отсылки к «третьему плану» – к научным знаниям тех времен, например, из анатомии – «усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого». Или даже из ньютоновской физики – Иван Ильич сравнивает свою жизнь с падающим вниз камнем, она летит все быстрее и быстрее, «обратно пропорционально квадратам расстояния от смерти». Но прежде всего это гениальное произведение поражает, конечно, своей художественной мощью – рисуя, оркеструя, вылепливая никчемную и абсурдную историю жизни социальной личности Ивана Ильича в сравнении с ужасающей и необъяснимой безжалостностью его умирания и смерти. «Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни за чем. Дальше и кроме этого ничего не было».
Поразительно, что именно крах, аннигиляция и распад социального порождают в этом произведении невиданную палитру новаторских художественных средств, которые буквально на глазах сотворяет здесь Толстой. Если в романе «Анна Каренина» он открывает то, что позднее было названо методом потока сознания, то в повести «Смерть Ивана Ильича», на мой взгляд, можно услышать чуть ли не всю интонационную основу западной литературной традиции модернизма, ту особенную синтаксическую музыку, которая порождает и персонажа, и сюжет. Чтобы не быть голословным, приведу несколько конкретных примеров. «…Опять на него нашел ужас, он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно, он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти». Чем не Кафка? Разве это и не про Грегора Замзу? Или взять препирания Ивана Ильича с доктором и роль доктора как судьи – чем не кафкианский «Процесс»! А вот разговор Ивана Ильича со слугой Герасимом: «Тебе что делать надо еще?» – «Да мне что ж делать, все переделал, только дров наколоть на завтра». «Так подержи мне ноги повыше, можешь?» – «Отчего же, можно». Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли. <���…> С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним». Ну прямо отрывок из пьесы Ионеску. А вот о жене Ивана Ильича: «Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему – то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, – и не могла уже снять этого отношения к нему». Чем не Макс Фриш? А вот и грядущий Пруст: «Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки…» А вот напоследок и Джойс: «Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мучение. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу