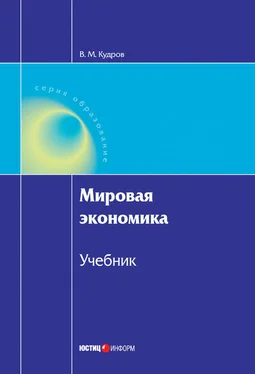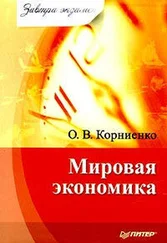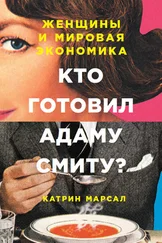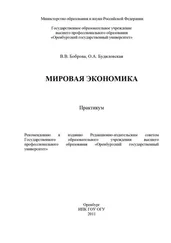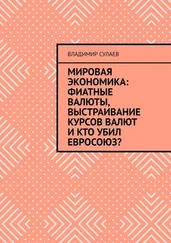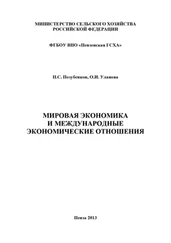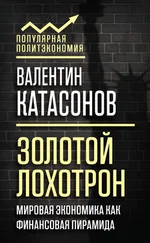Итак, в результате генезиса исторически созданных производительных сил, их диверсификации и усложнения происходило сначала крайне медленное, противоречивое, затем более быстрое вызревание интенсивного типа воспроизводства, характеризующегося – в тенденции – снижением ресурсоемкости экономики (не исключающей, впрочем, а предполагающей относительное расширение затрат нетрадиционных видов ресурсов), повышением роли социальных и духовных элементов производительных сил, а также существенным, хотя и далеко неравномерным ускорением темпов экономического развития.
В доиндустриальный период (1000–1800 гг.) душевой ВВП стран Запада возрос примерно в 2–3 раза, а на Востоке (Китай, Индия, Египет) он, возможно, сократился в среднем на 20 %. В эпоху промышленного переворота (1800–1950 гг.) в крупных ныне развитых странах указанный показатель увеличился почти в 6 раз, а по шести крупным странам Востока и Юга (Китай, Индия, Египет, Сирия, Пакистан и Бангладеш) – в среднем лишь на 14 %.
В послевоенный период ускорение экономического роста в значительной мере охватило также страны «третьего мира». В 1950–1993 гг. в крупных развивающихся странах душевой ВВП вырос в 3,6 раза, а в крупных развитых – в 3,1 раза. В целом за период, охваченный расчетами (1000–1993 гг.), совокупный ВВП ныне развитых стран увеличился примерно в 1540 раз (в крупных странах Востока и Юга – в 50 раз); душевой ВВП вырос соответственно в 40–43 и 3,0–3,5 раза; в ныне развитых странах индекс развитиявозрос в 30 раз, а в целом по крупным странам Востока и Юга – примерно в 4 раза. Наконец, эффективность использования ресурсов в первой группе стран увеличилась в 10–13 раз, а во второй – лишь в 1,3 раза.
Отмечая медленные, эволюционные изменения в досовременных обществах, мы тем не менее полагаем, что их экономические и социальные системы были отнюдь не статичны и «пассивны».
Во-первых, этим обществам, причем в большей мере Востоку, чем Западу, была присуща значительная, намного превосходящая современные масштабы неустойчивость воспроизводства, обусловленная, как отмечалось выше, природными и социальными факторами. Колоссальные общественные силы, труд множества людей и богатство общества расходовались на устранение или предотвращение различных катастроф и кризисов. Во-вторых, досовременные общества обменивались в ходе внутрицивилизационных и межцивилизационных контактов разнообразными инновациями, темпы распространения которых со временем стали постепенно ускоряться.
В силу природных и исторических факторов страны Востока в целом оказались к началу второго тысячелетия сравнительно более развитыми, чем западные, расположенные на периферии Евразии, вдали от тогдашних центров мировой цивилизации. Однако к концу второго тысячелетия именно на Западе сложились необходимые и достаточные условия для реализации догоняющего, а затем и перегоняющего развития в результате определенной комбинации всей системы естественных, материальных, социальных и духовных производительных сил. При этом приоритетное развитие социальных и духовных компонентов производительных сил, человеческого фактора оказалось в конечном счете решающим в европейском феномене «раскованного Прометея».
Успехи стран Запада и Японии базировались также на развитии товарно-денежных отношений, предпринимательской инициативы. После Второй мировой войны страны Запада и Япония опробовали кейнсианские и монетаристскиемодели государственного регулирования экономики. Но никогда государство не брало на себя определяющую и направляющую роль в развитии экономических процессов, выполняя лишь функцию индикативного, т. е. указующего, регулирования и стимулирования производства. В последнее время победу одержала либеральная модельстратегии государственного регулирования экономики с опорой на свободу рыночных отношений и предпринимательства.
Страны Востока все более вовлекаются в русло современного экономического роста. В послевоенный период многие из них стали проводить индустриализацию. Но нигде этот процесс не проходил за счет сельского хозяйства, как в бывшем СССР. Наоборот, капиталы, созданные в сельском хозяйстве, а затем в легкой и пищевой промышленности, использовались для осуществления промышленного переворота и развития тяжелой промышленности.
Нисколько не идеализируя историю Запада (т. е. признавая его обреченность на развитие через бесконечные метаморфозы), мы не хотели бы излишне драматизировать печальную, но вовсе не безысходную судьбу Востока. Трансформация «восточных» систем в современные формы производства и общения (необязательно западные, но перспективные) займет немало времени.
Читать дальше