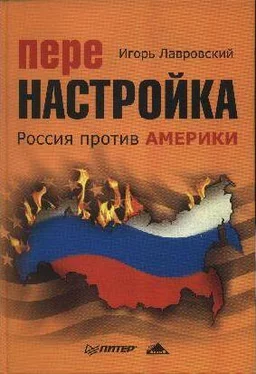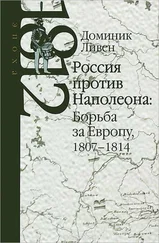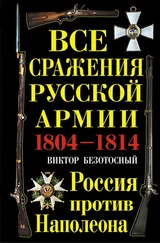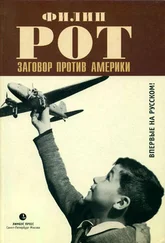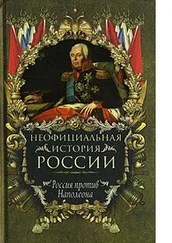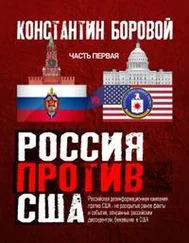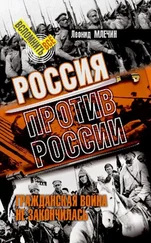Великий кризис 1929 года породил не одну, а целых три отчаянно конкурировавших модели государственного планирования: германскую, советскую и американскую. Факт ожесточенного противоборства между ними только доказывает их однотипность. Не могут тотально конкурировать системы, находящиеся на разных стадиях общественного развития.Европейские феодальные империи легко расправились с рабовладельческими цивилизациями Америки и Африки. Достигнув стадии капитализма, они рискнули на захват феодальных империй Индии и Китая. Но тотальная война возможна только между равными — Рим и Карфаген, Англия и Испания, Наполеон и Веллингтон, Сталин и Гитлер, Хрущев и Кеннеди.
Сначала Гитлер убрал из геополитики старых колониальных претендентов на участие в мировой гонке — Англию и Францию, потом его разгромил Сталин с помощью Рузвельта. Потом СССР и США добили остатки колониальных держав и выстроили биполярный мир. В конце концов, одна из глобальных систем планирования оказалась явно богаче и могущественнее, и возник монополярный мир с одной сверхдержавой. Но почему мировые конфликты с появлением централизованного планирования обострились, а не затихли, как ожидали марксисты? Потому что планирование не абстрактно — оно всегда в чьих-то интересах.Советские коммунисты пришли к власти, пообещав планировать в интересах народа. Потом все свелось к планированию в интересах верхушки, озабоченной лишь своим положением в мире. В чьих интересах сегодня планирует Америка? Вопрос риторический.
Современная социальная рыночная экономика — продукт холодной войны, а не «рынка». Наличие атомного оружия предотвратило прямое военное столкновение между сверхдержавами. Тем самым сбылся еще один прогноз, но не Карла Маркса, а Альфреда Нобеля, который верил, что повышение мощности взрывчатки устрашит конфликтующие стороны и обеспечит мир. Для обеспечения мира динамита не хватило, зато хватило ракет с ядерными боеголовками. Мир оказался дороже, чем предполагал Нобель.
Из-за невозможности добиться победы военными средствами сверхдержавы конкурировали в социальной области. Причем социальные достижения более активно заимствовались западной стороной, а не восточной.Так, на Западе появилось советское ноу-хау: равноправие женщин, политкорректность, бесплатные медицина и образование, муниципальное жилье и т. д. Реальная и мнимая советская угроза использовалась Америкой для распространения своей экономической модели и расширения своего контроля над важнейшими экономическими факторами, где бы в мире они ни находились.
Централизованные экономики, созданные в 20—30-х годах, были отмобилизованы в 1939–1941 годах. Загрузка мировой военной промышленности после войны была обеспечена холодной войной и гонкой вооружений. СССР и США кормили ВПК друг друга, изобретая все новые и новые более совершенные и дорогие ракеты и самолеты, авианосцы, танки и подводные лодки. Соревнование двух сверхдержав в области вооружений напоминало соревнование авиакорпораций или домов мод. Каждое действие обязательно вызывало адекватное противодействие противника.
Популярный у коммунистов образ батальонов пролетариата имеет прямое отношение и к восточному, и к западному социализму. Война и процветание, хлеб и порох оказались неразрывно связаны между собой и в Восточном, и в Западном блоках стран.
Врастанию государства в экономику США способствовали колоссальные военные заказы 30-х годов и Второй мировой войны. В отличие от СССР Штаты избежали прямой национализации оборонной промышленности, ограничившись тесным сотрудничеством между частными компаниями и правительством в «рабочем порядке». Огромную роль сыграло осуществление Манхэттенского проекта — проекта создания атомной бомбы. Руководство проектом осуществлялось смешанной группой, состоявшей из ученых и военных. Принципы, впервые разработанные для Манхэттенского проекта, были затем использованы и в гражданской промышленности. Предприятия, созданные государством при создании атомной бомбы, были потом возмездно или безвозмездно переданы частной промышленности. Многие в России страдают «задним числом», подсчитывая «убытки государства» от приватизации обанкротившейся государственной промышленности. Хорошим утешением для них должна послужить история приватизации завода по разделению изотопов урана стоимостью в миллиарды долларов, проданного американским правительством компании «Дюпон» за 1 доллар — в буквальном смысле слова за одну условную единицу.
Читать дальше