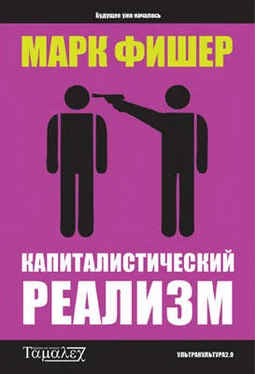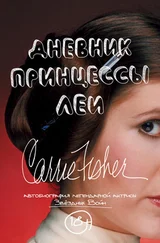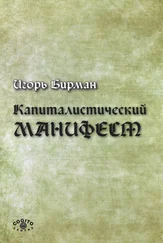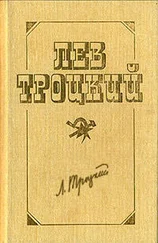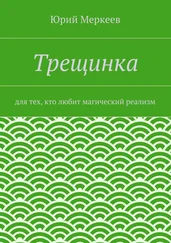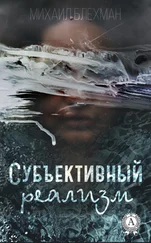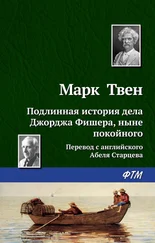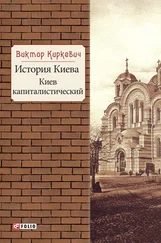Нравственность была заменена чувством. В «империи самости» каждый «чувствует то же самое», никоим образом не выходя за границы собственного солипсизма. Кёртис заявляет:
…Люди страдают от того, что они пойманы внутри самих себя — в мире индивидуализма каждый пойман своими собственными чувствами, своими собственными вымыслами. Наша работа как сотрудников государственного телевидения — вывести людей за границы их самости, и если мы не сделаем этого, упадок будет только продолжаться. ВВС следует это понять. У меня идеалистический взгляд, однако если бы ВВС смогла сделать это — вытянуть людей из их оболочки, она обновилась бы так, что могла бы не бояться конкуренции. Конкуренция с маниакальным упорством заставляет обслуживать людей в их маленьких эго. И в определенном смысле, Мердок, несмотря на всю его власть, тоже пойман этой самостью. Это его работа — раскармливать самость.
Для ВВС это следующий шаг вперед. Это не значит, что мы вернемся к 1950-м и будем говорить людям, как одеваться. Нам надо сказать им: «вы можете освободиться от самих себя» — и людям это понравится.
Кёртис нападает на Интернет, поскольку, с его точки зрения, он упрощает коммуникацию солипсистов, выстраивает интерпассивную сеть единомышленников, которые подтверждают, а не критикуют предпосылки и предрассудки друг друга. Вместо того чтобы сталкивать разные точки зрения в дискуссионном публичном пространстве, эти сообщества замыкаются в своем внутреннем кругу. Но, как заявляет Кёртис, давление интернет-лобби на старые медиа разрушительно, поскольку его реактивная проактивность не только позволяет медиаклассу отречься от своей образовательной и этической функции, но и дает популистам правого и левого толка право угрозами заставить продюсеров выпускать посредственные, но успокоительные передачи.
Критика Кёртиса в определенном смысле верна, однако она упускает важные качества происходящего в сети. Вопреки его описанию блогов, последние могут порождать новые дискурсивные сети, у которых нет аналогов в социальном поле за пределами киберпространства. Поскольку старые медиа все больше уступают требованиям пиара, а потребительский отчет заменяет собой критическое эссе, некоторые зоны ки-берпространства дают возможность сопротивляться «критическому сжатию», которое с угрюмой неизбежностью распространяется на все остальные места. Тем не менее интерпассивная симуляция участия в постмодернистских медиа, сетевой нарциссизм MySpace и Facebook по большей части порождали вторичный, паразитарный и конформистский контент. Можно заметить некую иронию в том, что отказ медиакласса от патерналистской позиции создал не низовую культуру умопомрачительного разнообразия, а культуру прогрессирующей инфантилизации. Напротив, именно патерналистские культуры относятся к своей аудитории как к взрослым людям, предполагая, что они могут справиться со сложными культурными продуктами, предъявляющими высокие требования к интеллекту. Причина, по которой фокус-группы и иные капиталистические системы обратной связи неизменно проваливаются, даже когда они порождают весьма популярные товары, состоит в том, что люди не знают, чего они хотят. И не только потому, что желание у людей уже есть, но скрыто от них (хотя часто именно так и бывает). Скорее, наиболее сильные формы желания представляют собой именно стремление к чему-то странному, неожиданному, загадочному. А такие вещи могут создавать только художники и профессионалы медиа, которые умеют давать людям нечто отличное от того, что их уже и так удовлетворяет, — то есть те, кто готов пойти на определенный риск.
Марксистская суперняня не просто ввела бы некоторые ограничения, действуя, таким образам, в наших интересах в том случае, когда мы неспособны распознать их сами, но и была бы готова пойти на этот риск, поставить на странные вещи и наше влечение к ним. Еще один ироничный момент капиталистического «общества риска» заключается в том, что оно готово пойти на подобный риск в гораздо меньшей степени, чем якобы закоснелая и централизованная культура послевоенного социального консенсуса. Публично-ориентированные ВВС и Channel 4 поражали и радовали меня сериалом «Жестянщик, портной, солдат, шпион», пьесами Пинтера и фильмами Тарковского. И та же ВВС спонсировала популярный авангард на ВВС Radiophonic Workshop, что позволило встроить музыкальные эксперименты непосредственно в повседневную жизнь. Сегодня такие инновации немыслимы, когда публику заменили потребители. Следствием постоянной структурной нестабильности, «аннулирования дальней перспективы» становится неизменная стагнация и консерватизм, а не новшества. И это не парадокс. Как ясно из приведенных выше замечаний Адама Кёртиса, господствующие в позднем капитализме аффекты — это страх и цинизм. Эти эмоции не могут подтолкнуть к смелым мыслям или предприимчивым броскам, они взращивают конформизм и культ минимальных различий, выпуск продуктов, которые почти ничем не отличаются от тех, что уже добились успеха. При этом такие фильмы, как вышеупомянутые «Солярис» и «Сталкер» Тарковского, из которых в Голливуде воровали идеи, когда снимали «Чужого» и «Бегущего по лезвию бритвы», были сделаны в откровенно гнетущих условиях брежневского советского государства, а это значит, что СССР действовал в качестве культурного антрепренера Голливуда. Поскольку сегодня ясно, что для культурного развития требуется определенный уровень стабильности, следует задать вопрос: как возможно обеспечить такую стабильность и какими силами?
Читать дальше