Менеджмент и исходные акционеры компании были заинтересованы любой ценой поддерживать рост курса ее акций, чтобы успеть реализовать свои опционные контракты и продать акции близоруким инвесторам по сверхоптимистичным ценам, пока обман не раскроется (или до того, как какой-нибудь из «маниловских» проектов вдруг принесет огромную прибыль).
В конце каждого квартала менеджеры «управляли» отчетами так, чтобы – только на бумаге – превзойти ожидания инвесторов. Так и возникла система «структурированных финансов», когда под каждую сделку создавались внебалансовые «инструменты специального назначения», резко снижающие возможность выяснить реальное положение дел. За три года финансовый директор Энди Фастоу зарегистрировал 3 тыс. компаний (включая более 800 офшорных).
В конце концов, высший менеджмент уже и сам не мог определить, принесет данная сделка прибыль или нет. Это хорошо понимали руководители подразделений, которые предлагали все новые проекты (например, расширение изначальной бизнес-идеи за счет новых отраслей и территорий – водоснабжения, электричества, широкополосных коммуникаций, выхода на иностранные рынки). В подавляющем большинстве этих проектов реальная вероятность успеха была ниже приемлемой, однако чудеса финансовой отчетности позволяли докладывать о хороших результатах и получать доход от реализации опционов. Несколько руководителей с треском провалившихся проектов реализовали опционы и акции на десятки миллионов долларов каждый.
Предприниматели, не понаслышке разбирающиеся в проблеме оптимизации налогов, зададут закономерный вопрос: почему же Enron и подобные ему компании не перешли на двойную бухгалтерию, используя один набор документов для внешней отчетности, а второй – для управления компанией и создания стимулов внутри корпоративной иерархии?
Оказывается, схемы приписок, нацеленных на завышение стоимости компании, существенно отличаются от схем сокрытия доходов от налогообложения. Уклонение от налогов автоматически согласует стимулы всех сотрудников, связывая их круговой порукой без потери внутренней эффективности. Если какое-то подразделение добивается успешных результатов и получает зарплату в конверте, у него нет причин доносить в налоговую инспекцию.
В Enron же приписки требовались для того, чтобы выдать плохие результаты за хорошие. Нужно было обеспечить молчание именно тех подразделений, чьи результаты завышали, иначе они могли начать задавать неприятные вопросы. Не случайно знаменитое письмо вице-президента Шеррон Уоткинс о проблемах Enron начиналось с фразы: «Те из нас, кто не разбогател в последние годы…».
Утечка информации о приписках могла привести к резкому падению курса акций компании и лишить высшее руководство многомиллионных доходов. Поэтому менеджмент предпочитал закрывать глаза на провалы подчиненных, вознаграждая их за отчетные, а не за реальные достижения. Это выразилось в распространении краткосрочных опционов по всем уровням корпоративной иерархии. Независимо от реального положения дел все ключевые сотрудники были кровно заинтересованы в том, чтобы инвесторы продолжали верить в сверхъестественные доходы Enron. Система приписок расползлась по всей компании, уничтожая стимулы и разъедая стоимость.
К сожалению, Enron конца 90-х гг. удивительно напоминает не только некоторые российские корпорации, но и саму систему государственной власти, сформировавшуюся в России в последние годы. Посредники американского фондового рынка – аудиторы, рейтинговые агентства, инвестиционные аналитики – не выполнили свои функции честного, непредвзятого контроля над действиями менеджеров Enron. Так же и в России: отсутствие свободных выборов и независимых СМИ, подконтрольность всех ветвей власти одному центру не позволяют контролировать действия бюрократов.
Российские избиратели – акционеры корпорации «Россия» – не могут получить информации о реальном положении дел. Телевизионная картинка, как и отчетность Enron, показывает, что нет поводов для беспокойства. В случае с Enron подавление всех каналов подотчетности привело к потере управляемости. Эта же угроза нависла и над российской властью. Что бы ни делали отдельные чиновники или подразделения госаппарата, высшее руководство вынуждено признавать их успехи. У него не осталось независимых от бюрократии оценок ее деятельности, поэтому создать работающую систему стимулов невозможно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
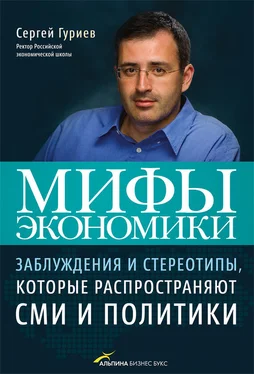
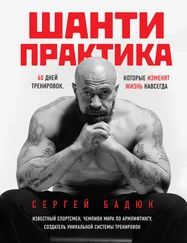
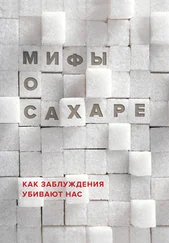


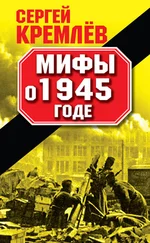
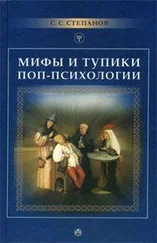
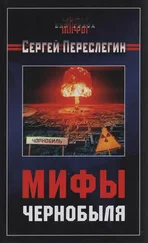

![Сергей Агапкин - Не дай голове расколоться! [Упражнения, которые возвращают жизнь без головной боли] [litres]](/books/407804/sergej-agapkin-ne-daj-golove-raskolotsya-uprazhne-thumb.webp)


