Глава 8
Институциональные изменения
В науке есть явление, которое социологи, юристы, психологи, историки, политологи называют «экономическим империализмом», а сами мы, экономисты, – «новой политической экономией». Суть его в том, что экономисты вторгаются на «чужие поля» и начинают изучать неэкономические объекты, применяя собственные методы исследований. Как это происходит в случаях государства и права, я уже рассказывал, теперь – об истории. Экономистам удалось нащупать в этой сфере довольно много закономерностей и в принципе изменить постановку вопроса: вместо того чтобы говорить об историческом развитии, они говорят об институциональных изменениях. И это неслучайно.
Вообще-то в массовом сознании естественным считается взгляд на историю, который возник в XVIII веке. Замечательные философы французского Просвещения принесли идею о том, что человек прекрасен и разум его всесилен, а вместе с ней – идею прогресса. История движется от худшего к лучшему, революции – это хорошо, потому что они ускоряют прогресс. Прошедшие с тех пор 250 лет заставляют серьезно задуматься и начать ревизию всех этих идей. Вопрос, существует ли в принципе такая вещь, как прогресс, гипотетический и, прямо скажем, неоднозначный. Вот показательный пример: есть такой французский город – Арль, который после так называемых «темных» веков был одним из центров экономического восстановления и процветания Южной Франции. Но что на пике своего развития этот экономический центр использовал вместо городских стен? Трибуны древнеримской арены.
О каком прогрессе по сравнению с Римской империей тут говорить? Или возьмем производительность в сельском хозяйстве: в начале нашей эры она была гораздо выше, чем тысячу лет спустя. Можно, конечно, измерять уровень прогресса по степени гуманизации человечества, но если посмотреть на количество убитых людей, то и тут динамика может получиться совсем неутешительной: технические усовершенствования или усиление государства на протяжении человеческой истории часто приводили к «неаккуратным» последствиям.
В истории происходят изменения, но вот вопрос о направленности этих изменений очень спорный. Не менее спорен вопрос о способах этих изменений. Возьмем революции. Когда экономисты взялись за их изучение, в первую очередь их интересовало то, что никогда не интересовало историков – движение формальных и неформальных институтов. Автор теории институциональных изменений Дуглас Норт не нашел в истории более крупного скачка, описанного и хорошо задокументированного, чем Октябрьская революция 1917 года. На ее примере Норт показал, что волны отрицательных последствий от сильной революции тянутся через весь век. И это его наблюдение актуально для разговора не только про XX, но и про XXI век. Ведь в 1991–1993 годах в России опять произошла революция – конечно, гораздо более мягкая, но и она имеет свой хвост последствий, в которых мы живем и будем жить еще довольно долго. То же самое относится к революциям 2000-х на Украине, в Грузии, Киргизии.
Как же объясняются революции с точки зрения теории институциональных изменений? Понятно, что изменить формальные институты (законы) можно быстро. А вот неформальные институты – это обычаи, они не могут меняться скачками. Что произошло с обычаями 25 октября 1917 года? Ничего. И 30 октября – тоже ничего, да и в феврале 1918-го – еще ничего. При резком изменении законодательства возникает разрыв между формальными и неформальными институтами, который может иметь два последствия. Во-первых, высокая криминализация: обычаи требуют одного, законы требуют другого, и в этом разломе возможен взлет преступности. Во-вторых, свобода творчества: революции нередко сопровождаются резким внедрением инноваций, культурным взрывом, творческими поисками.
Но напряжение между полюсами формальных и неформальных институтов растет, и это приводит к двусторонней реструктуризации: неформальные институты начинают медленно подтягиваться, приспосабливаться к изменившимся векторам жизни, а институты формальные откатываются назад, к более привычным формам. В какой-то момент две эти линии пересекаются, и страна вступает в период, для которого, с одной стороны, характерно экономическое процветание, а с другой – политическая реакция. Реакция происходит из-за отказа от установок предшествующей революции, процветание – из-за того, что возникает гармония между формальными и неформальными институтами, а это хорошо для жизни и для экономики. Если говорить о самой крупной революции в истории России, то для нее такая эпоха – нэп, а для революции 1990-х это первые путинские годы, когда установился реакционный в историческом измерении режим, утверждавший порядок, и в то же время начались продуктивные экономические реформы, которые дали восстановительный рост, начавшийся, заметим, еще до изменения нефтяной конъюнктуры.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
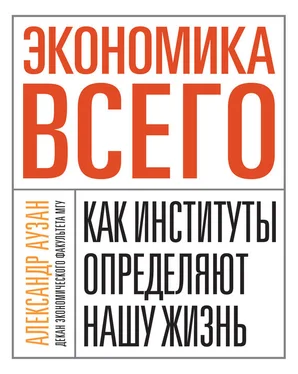




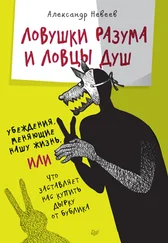

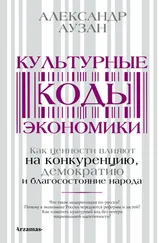


Данную книгу автор А.А. Аузан из своих лекций, которые публиковались в колонках журнала Esquire. Подобный формат достаточно интересен и прост в прочтении.
Основой написанной книги стала институциональная экономика (Институционализм, или институциональная экономика (англ. institutional economics), — школа экономической теории, изучающая эволюцию социальных институтов, таких как традиции, мораль, право, семья, общественные объединения, государство и др., и их влияние на формирование экономического поведения людей.)
Книга состоит из нескольких глав, в которых, например, рассматриваются такие вопросы, как: устройство жизни общества (главы «Человек», «Институты», «Общество»); рассмотрение отдельных институтов (главы «Государство», «Собственность», «Экономика и право»); общественное развитие (главы «Институциональные изменения» и «Модернизация»).
А. Аузан делится мыслями по поводу формальных и неформальных институтов, как общество оказывает влияние на их формирование и страну в целом. Автор не оставляет идеи без аргументации, он приводит различные примеры и подтверждает истинность своих высказываний.
Также поднимается множество актуальных проблем, которые касаются не только государства, но ещё и человека в отдельности.
Без понимания некоторых терминов экономики и права достаточно трудно в полной мере осознавать написанное, поэтому порой необходимо обращаться к словарям.
Хочу также отметить, что приведённая в книге информация может послужить в дальнейшем основной для более глубокого изучения научной экономической литературы.
Итог можно подвести следующий: книга рассматривает актуальные на данный момент вопросы, которые должны волновать каждого из нас. Издержки, доверие между людьми и государством, рациональная ограниченность и человеческий оппортунизм - это то, о чем интересно и важно знать каждому из нас.