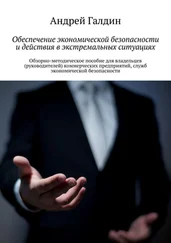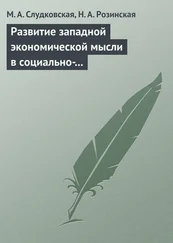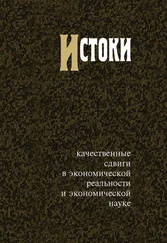Ситуация по ту сторону Атлантики не очень отличается. Наглядным примером того, как качнулся маятник прочь от естественных наук, является нерадостный отчет политехнического факультета Гламорганского университета за 2004/05 академический год. Чтобы поощрить школьников выбрать инженерные специальности в качестве профессиональной и научной карьеры, представители кафедры посетили несколько школ Великобритании, встретились примерно с 1500 шестиклассниками и отметили, что на первый же вопрос: «Чем занимаются инженеры?» — большинство отвечало: «Инженеры ремонтируют автомобили и стиральные машины».
Как странно думать, что в Британии XXI века так называемым образованным ученикам не рассказали, что делают инженеры, — возможно, потому, что тамошняя система образования не считает инженерную профессию актуальной для современного западного общества.
Если взять дневник мальчишки за период между 1930-ми годами и 1960-ми, скорее всего, там нашлись бы вырезки из газет об инженерных чудесах, о подвесных мостах, железных дорогах и самолетах, может быть, даже принцип действия атомной бомбы. Но не сегодня. Откройте сегодняшний дневник, и на его страницах будут фотографии футбольных команд и мальчиковых групп. Британский изобретатель Джеймс Дайсон сказал об этом так: «Ребенком я разглядывал вырезки из журнала „Игл“, который писал о том, как работает все что угодно — от ракет „Бладхаунд“ до морских буровых вышек… Именно внутренности увлекали и вдохновляли… Что происходит между детством и зрелостью? Мы выдавливаем это из них. Мы клеймим позором инженерное дело и подталкиваем детей, чтобы они становились „профессионалами“ — юристами, бухгалтерами, врачами… Инженер превратился чуть ли не в ругательство. Нам говорят, что „это устаревшая область“ и что мы теперь „постиндустриальная страна“».
Кому какое дело, что Китай выпускает в четырнадцать раз больше инженеров, чем Британия. Это апатичное отношение к науке и технике пронизывает политическую структуру индустриализованного Запада. Чтобы найти американского президента с инженерным или научным образованием, приходится возвращаться к самому Томасу Джефферсону, третьему президенту Соединенных Штатов (1801–1809), который был изобретателем, садоводом, археологом и палеонтологом.
Не считая министра науки лорда Дрейсона, назначенного в 2009 году, на высших уровнях британского правительства нет ни одного инженера. При этом Ху Цзиньтао, председатель КНР, окончил Пекинский политехнический институт Цинхуа как инженер по гидротехнике, и Вэнь Цзябао, китайский премьер-министр, — тоже инженер, окончил аспирантуру.
В научном докладе ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, в 2005 году на долю Китая пришлось почти 15% от количества исследователей в мире, а на долю США — около 23% (удивительно близко, учитывая относительное различие средних экономических стандартов). В Китае 3,22 миллиона людей заняты наукой и техникой, из них 68% (около 2 миллионов) ученых и инженеров. Это важная статистика, поскольку есть распространенное мнение, что между количеством ученых, техников и инженеров в стране и ее уровнем экономического роста и развития существует важная, положительная и тесная связь.
Конечно, в пропорциональном отношении Китай не так уж хорошо справляется (у него более миллиарда людей — 20% мирового населения), но эта общая численность показывает в ложном свете некоторые скачки в области научно-технических исследований, экспериментов и публикаций, о чем мы поговорим в следующей главе.
Делая шаг назад, можно спросить, действительно ли деиндустриализация и неизбежное сокращение рабочих мест в производстве имеет важное значение. В конце концов, может быть, это всего лишь естественное следствие экономического прогресса — результат быстрой миграции производственных профессий из богатых стран в бедные.
В классической экономической литературе часто утверждается, что существует четкая траектория экономического роста, по которой страны переходят из одной преобладающей экономической фазы в другую, и всего этих фаз три. В общих чертах, страна переходит от сельского хозяйства к производству и затем к сфере услуг, и каждая стадия примерно совпадает с повышением уровня дохода, поэтому там, где в экономике доминирует сельскохозяйственный сектор (например, в Африке), доходы, как правило, намного ниже, чем в странах, где доминирует сфера услуг (например, в США и Западной Европе). Конечно, в большой степени это ложная классификация; на практике в экономике, как в мешке, все три сектора перемешаны: например, в каждой стране есть люди, занятые в сельском хозяйстве; но, конечно, на отдельно взятом этапе экономической эволюции страны какой-то из этих секторов будет доминировать. Как бы там ни было, пожалуй, существует и четвертый сектор — научно-технические инновации и передовые технологии; уместнее будет поговорить об этом позже.
Читать дальше
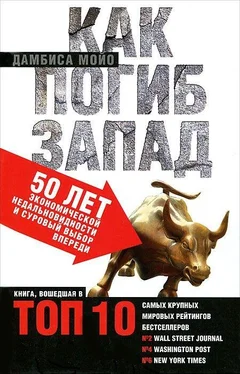
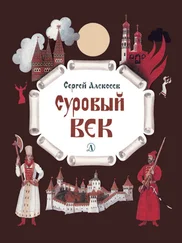
![Мартин МакДонах - Тоскливый Запад [=Сиротливый Запад]](/books/92360/martin-makdonah-tosklivyj-zapad-sirotlivyj-zapad-thumb.webp)
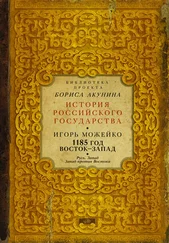

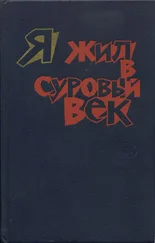


![Дмитрий Зурков - Вперед на запад [litres с оптимизированной обложкой]](/books/414016/dmitrij-zurkov-vpered-na-zapad-litres-s-optimizir-thumb.webp)