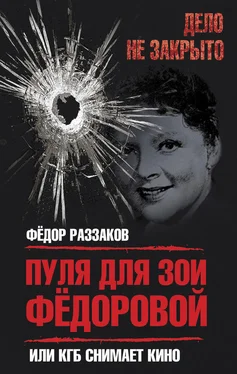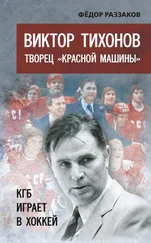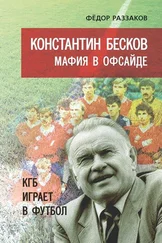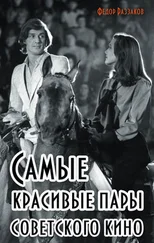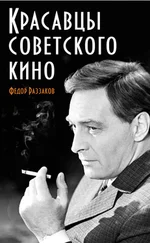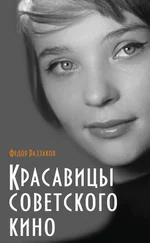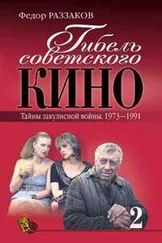Военный атташе снова куда-то исчез. В это время балерина Семенова сказала, что пора бы и честь знать и время отправляться домой. Вышел Шуленбург, гости благодарили за прием. Появился военный атташе, подошел ко мне и злорадно съязвил:
– Мне сейчас сообщили, что театр Станиславского не собирается выезжать с гастролями в Финляндию, как вы изволили мне сказать.
– У вас старые сведения, господин генерал, – ничуть не смутившись, ответила я.
– Сведения самые последние и самые достоверные, – настырно повторил военный атташе.
– А я утверждаю, что именно так. Сегодня днем шеф ВОКСа профессор Кеменов подписал мой план.
Мы распрощались.
Меня ждала машина ВОКСа. В зеркало я видела, что военный атташе, стоя на крыльце, записывал номер этой машины.
Возле моего дома меня ждала другая, служебная машина, на которой я поехала на Лубянку и, как была, в вечернем бархатном платье со шлейфом, пришла к генералу Федотову. Мои наблюдения в германском посольстве и всякие подмеченные детали вполне удовлетворили специалистов нашей контрразведки. Из моего доклада было ясно, что германское посольство готовится к отъезду и вся эта „культурная“ акция с Берлинским балетом сфабрикована для отвода глаз.
Шуленбург и его аппарат готовились покинуть Москву…»
Что касается еще одного чекиста, упомянутого Судоплатовым, – Виктора Ильина, то он в 14-летнем возрасте участвовал в гражданской войне на стороне Красной армии. А после войны стал политруком в дивизии особого назначения при Коллегии ОГПУ. Но в 1926 году Ильина уволили из органов по слабости зрения. Но, как говорится, бывших чекистов не бывает. Судя по всему, Ильин относился к их числу. Он хоть и работал в Высшем совете народного хозяйства СССР секретарем замначальника Военно-промышленного управления, но и чекистскую службу, видимо, не забывал. Поэтому в 1932 году его устроили в руководство кинематографического главка – налаживать агентурную сеть в среде киношников. Судя по всему, делал он это весьма споро, за что после чего в январе 1933 года его вернули в штатные сотрудники ОГПУ – рядовым оперуполномоченным. Причем трудился он на «культурном фронте» – агентурил среди киношно-театральной и литературной богемы (лично «вел» агента «Гейне» – Александра Демьянова, которого, как мы помним, устроили рядовым электриком на «Мосфильм»). А в 1937–1938 годах его перебросили на разработку меньшевиков и троцкистов. Он и там отличился, но все же главным его коньком была творческая элита. Поэтому в 1939 году Ильин был назначен заместителем начальника 3-го (вскоре он станет 2-м) отдела Секретно-политического Управления НКВД, занимавшегося работой с творческой интеллигенцией.
А руководил тогда СПО Павел Федотов, который пришел на работу в ВЧК в двадцать лет – в январе 1921 года. Будучи петербуржцем, он долгие годы работал в СПО на Северном Кавказе (Чечня и Орджоникидзевский край), после чего осенью 1937 года был переведен в центральный аппарат НКВД СССР, где шли массовые чистки в рядах старой номенклатуры. Спустя несколько месяцев – в марте 1938 года – Федотов уже был назначен начальником 7-го отделения 4-го (секретно-политического) отдела ГУГБ – это отделение отвечало за выявление и разработку антисоветских организаций учащейся молодежи, системы Наркомпроса, детей репрессированных. В сентябре того же 1938-го Федотов уже стал помощником начальника 4-го отдела, затем его заместителем. А спустя 11 дней после заключения советско-германского договора о дружбе – 4 сентября 1939 года – Федотов возглавил 2-й (секретно-политический) отдел ГУГБ НКВД СССР.
А что же Зоя Федорова? В Москве она поселилась в родительской квартире на Моховой, дом 10, где также жил ее младший брат Иван (еще у них были две сестры – Мария и Александра, но они жили отдельно в своих семьях – например, у Марии мужем был певец из Большого театра Синицын). Но это совместное житье было временным явлением, поскольку Зое было обещано отдельное жилье, причем не где-нибудь, а в новом, уже почти построенном доме 17 на улице Горького. О бывшем муже она уже не вспоминала, поскольку у нее на горизонте появился новый воздыхатель – куда более перспективный. Во-первых, он был молод (моложе ее на восемь лет), во-вторых – русский (связи с евреями в ту пору уже так не поощрялись, как раньше), и, наконец, он был летчиком – «сталинским соколом», как их тогда называли. Речь идет об Иване Клещеве.
Он родился 26 января 1918 года в селе Курячовка ныне Марковского района Луганской области Украины в шахтерской семье. В 1933 году окончил 1-й курс педагогического техникума в Ворошиловграде, после чего работал слесарем на паровозостроительном заводе в городе Новочеркасске. Как и большинство мальчишек той поры, мечтал стать летчиком (вспомним фильм «Летчики» 1935 года выпуска, где Зоя Федорова играла роль медсестры) и вступил в ростовский аэроклуб. Затем он попал в Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу