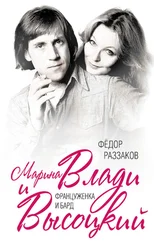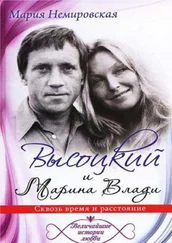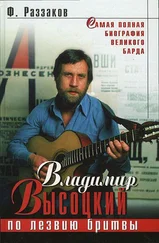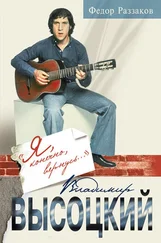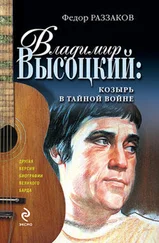Еще в конце 40-х в ФРГ возникла чехословацкая спецслужба «ОКАПИ», которую возглавил Франтишек Моравец. Эта структура действовала под крылом БНД (западногерманской разведки), которой руководил бывший нацист Рейнхард Гелен. Служба возникла не случайно, а как попытка расшатать самую просоветскую республику в Восточном блоке. И сделать это предполагалось через тамошнюю интеллигенцию, на большинство деятелей которой у «ОКАПИ» было обширное досье (оно тщательно собиралось, пока чехословаки находились под пятой Третьего рейха). Пользуясь тем, что после смерти Сталина в Восточном блоке началась «оттепель», «ОКАПИ» с помощью своей агентуры стало вбрасывать в чехословацкое общество те либеральные идеи, которые должны были исподволь подтачивать идеологический фундамент общества. Именно с целью противостоять этому в Праге и был создан советский политический журнал, который на самом деле выполнял не только идеологическую роль, но и спецслужбистскую – был базой КГБ. Спрашивается, причем здесь «Таганка», Высоцкий и т. д.? Все очень просто.
На волне реформ в ЧССР на свет стали появляться театры, которые стали развиваться в пику театрам, исповедовавшим соцреализм. Эти театры были двух видов: безгражданские, которые они занимались чистым бытоописательством, ставя спектакли на темы частной жизни, не касаясь жизни общественной, и гражданско-критические или нонконформистские – эти могли касаться разных сторон общественной жизни, но в основном освещали их критически, используя «эзопов язык» или «фиги в кармане». Среди режиссеров последнего направления самым популярным был Отамар Крейча, который мастерски ставил чеховские пьесы – «Чайку», «Три сестры», «Иванова», проектируя их сюжеты на чехословацкую действительность, которую Крейча в основном критиковал; чуть позже автограф Крейчи украсит стену любимовского кабинета на «Таганке». Отметим, что с 1956 года этот режиссер возглавлял один из ведущих коллективов страны – Национальный театр в Праге, после чего в 1961 году ушел из него и создал театр малой формы «На забрадли» («На ступенях»). Подобные театры стали расти в ЧССР как грибы после дождя в конце 50-х, и к началу следующего десятилетия их насчитывалось уже не один десяток. Именно там чехословацкая интеллигенция и набиралась тех идей, которые легли в основу будущей «бархатной революции».
Советские либералы, работавшие в журнале «Проблемы мира и социализма», в целом положительно оценивали этот чехословацкий опыт, поэтому и стали ратовать за то, чтобы он был пересажен и на советскую почву. КГБ смотрел на это скептически, резонно подозревая, что за многими этими идеями стоит агентура «ОКАПИ». Однако чекисты после смерти Сталина были лишены многих своих властных полномочий – в этом деле в авангарде шел Международный отдел ЦК КПСС, славившийся своими пролиберальными настроениями, поэтому мало могли воздействовать на развитие ситуации, хотя и старались ее контролировать. В итоге, когда в Москве возникли два театра с чехословацким опытом – «Ленком» с Анатолием Эфросом (в 1963 году, безгражданский) и «Таганка» с Юрием Любимовым (в 1964-м, гражданско-критический), то КГБ взял их под «колпак», но в идеологию обоих не вмешивался.
Отметим, что из почти десятка режиссеров, которые в первой половине 60-х пришли к руководству ряда ведущих московских театров, практически все имели большой опыт режиссерской работы. Например, тот же Эфрос к моменту назначения в «Ленком» 12 лет работал режиссером и имел за плечами не одну самостоятельную постановку. Другой режиссер – Борис Равенских, возглавивший Малый театр (1960), работал режиссером и того больше – 21 год. Среди других режиссеров значились Борис Львов-Анохин (возглавил драмтеатр имени Станиславского в 1963 году) – 13 лет режиссерского стажа, Александр Дунаев (главреж Театра Советской Армии с 1961 года) – 9 лет режиссерского стажа. А Евгений Симонов (возглавил Театр Вахтангова в 1962 году) и Андрей Попов (возглавил театр Советской Армии в 1963 году) были отпрысками режиссеров, руководивших этими театрами, и тоже имели опыт режиссуры, ставя спектакли вместе со своими родителями и поэтому по праву наследуя эти коллективы.
Ничего подобного не было у Юрия Любимова, который имел за плечами всего лишь одну полноценную самостоятельную режиссерскую постановку – спектакль «Много ли человеку надо» по пьесе А. Галича, которую он поставил в 1959 году в Театре Вахтангова. Второй его работой стал спектакль «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта, который он поставил со своими студентами в «Щуке» в 1963 году. Именно этот спектакль и стал поводом к тому, чтобы назначить Любимова руководителем «Таганки». Дело в том, что эта постановка была решена в русле чехословацкого опыта: действие пьесы, происходившее в Китае, Любимов повернул так, что в нем явственно угадывались современные советские реалии – настолько явственно, что ректор «Щуки» Борис Захава запретил демонстрировать спектакль в стенах своего училища, после чего Любимова и его студентов приютил либеральный Дом кино. Из киношной среды был послан и месседж «наверх», чтобы именно Любимову отдали «Таганку». «Толкачом» выступила тогдашняя гражданская супруга режиссера – киноактриса Людмила Целиковская, которая в 50-е годы была замужем за известным архитектором Каро Алабяном, и тот подружил ее с видным членом Политбюро, своим земляком Анастасом Микояном. Эта компания подключила к делу писателя Константина Симонова, который написал восторженный панегирик по адресу спектакля «Добрый человек из Сезуана», и его тут же напечатала главная газета страны «Правда», руководил которой недавний главред журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге Алексей Румянцев. На нем, как говорится, круг замкнулся.
Читать дальше