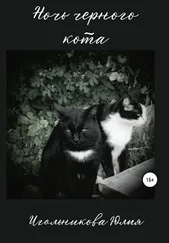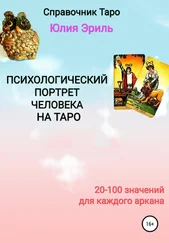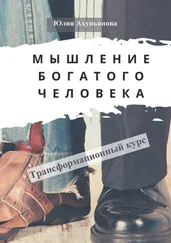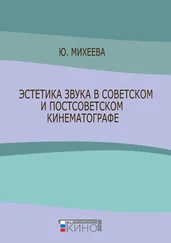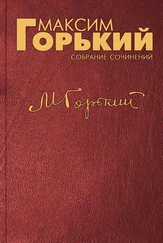«Чтобы быть правым, человек должен быть наг и мертв».
Слова Симоны о Христе после ее мучительной кончины читались уже иначе.
Несколько десятилетий до Второй мировой войны новейшая философия и молодое искусство кинематографа вели внешне параллельное существование. Читатель может воскликнуть: можно ли вообще ставить в один ряд философию с ее более чем двухтысячелетним развитием – и зрительский аттракцион, которому от роду – всего-то два-три десятилетия! И он будет отчасти прав. Однако и философию, и кинематограф творят люди , для многих из которых творчество есть сама жизнь, со всем напряжением интеллектуальных и нравственных усилий. Испанский экзистенциалист Мигель де Унамуно, обостренно чувствовавший свое время, выражался в этом смысле предельно ясно: «Если философ не человек, он уж и тем более не философ; он всего-навсего педант, то есть жалкое подобие человека… Философия, как и поэзия, либо создается целостным единством всех человеческих сил, либо, в противном случае, это будет уже не философия, а пародия на философию, псевдофилософская эрудиция» [9] Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. К.: Символ, 1996. С. 37–38.
. Но ведь то же можно сказать и об искусстве, настоящем искусстве, творимом людьми со страстным сердцем и болеющей душой.
Вполне естественно, что кинематограф стал таким искусством не сразу, пройдя бурный этап технического и коммерческого освоения пространства своего влияния. Мы вынуждены опустить подробный анализ явлений кинематографа довоенного времени, относящегося к теме христианства, чтобы сосредоточиться на поразительных изменениях в сознании режиссеров, произошедших в послевоенное время и отразивших общее изменение «ситуации человека» в послевоенной Европе. Страшная, небывалая до того реальность войны, засосавшая в черную дыру смерти каждого, собрала всех мыслящих и творческих европейцев в единое сообщество потрясенных [10] Мы говорим именно о Второй мировой войне как о переломе в европейском сознании в контексте широкого осмысления феномена XX века вообще, однако этот процесс начался уже после Первой мировой.
. С 1950-60-х гг. кинематограф (и в частности, кинематограф российский) стал говорить о проблеме человека на равных с западной экзистенциалистской философией и литературой – в силу пережитого предельного человеческого опыта , осмысление которого (облеченное в разные текстуальные формы) и есть реальная философия жизни второй половины XX века. Искусство как пространство осмысления предельных состояний человека дало возможность (право) мыслить дальше – о предельных категориях бытия.
Киновед В.А. Утилов в своей книге «Сумерки цивилизации: XX век в образах западного киноэкрана» пишет, что послевоенный кинематограф Запада «зафиксировал коренной сдвиг в развитии цивилизации XX века – отказ от лежащего в основе христианского миросозерцания различения добра и зла как «принципа конституирования человеческого бытия». Релятивистский взгляд на бытие, заявляющий о себе отказом индивида от рожденного верой в Бога, в прогресс и справедливость комплекса принципов, идеалов и взаимоотношений как между обществом и личностью, так и между отдельными людьми, знаменует собой переход к новому этапу в истории западной цивилизации XX века. Последним поводом к этому скачку в общественном и личном сознании стала, видимо, война, хотя разочарование в прогрессивной модели общественного развития назревало и раньше» [11] Утылов В. А. Сумерки цивилизации: XX век в образах западного киноэкрана. М.: Киностудия «Глобус», 2001. С. 107.
.
Однако спустя еще несколько десятилетий после окончания Второй мировой войны уже невозможно оставаться в состоянии «катастрофы сознания». Неизбежно приходит пора рационального осмысления и перевода в иные художественные формы мысли о современном состоянии человека и мира. И здесь, надо признать, западноевропейская мысль имеет исторически взращенное преимущество в искусстве не только толерантного диалога, но и острой полемики и интеллектуальной провокации. Проблема само(психо)анализа и диалогизма как метода «новой сборки» человека может быть отнесена уже ко времени постпостхристианства, которое продолжается в настоящее время.
Признаем, «ибо очевидно»: христианская идея продолжает бытийствовать не только в историческом и культурном контекстах. Она продолжает свое существование в экзистенциальном аспекте как живая потребность для все еще очень многих людей. Как выразился Поль Рикёр, радикальный вызов Ницше вынуждает прояснить, «как далеко я могу идти в этом направлении, чтобы оставаться христианином. Фраза «религиозное значение атеизма» не лишена смысла, она говорит о том, что атеизм, как бы он ни отвергал и ни громил религию, не теряет своего значения, что он расчищает место для чего-то нового, то есть для веры, которую по большому счету можно было бы назвать пост-религиозной верой, верой пост-религиозной эпохи» [12] Рикер П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М.: Искусство, 1996. С. 175.
.
Читать дальше
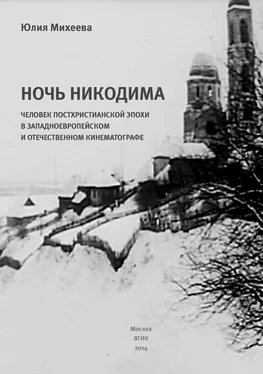
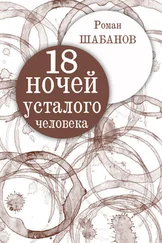

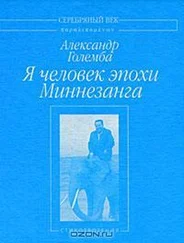
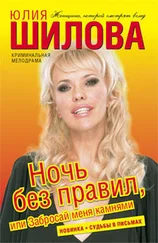
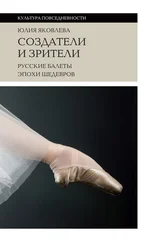
![Максим Осипов - Человек эпохи Возрождения [сборник]](/books/409687/maksim-osipov-chelovek-epohi-vozrozhdeniya-sbornik-thumb.webp)