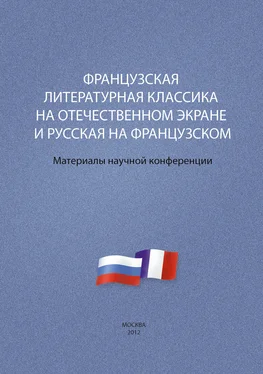Данный аспект интерпретации образа Кириллова полностью отсутствует у Вайды. Происходит не только небрежение казалось бы незначимыми деталями, исключение одних и привнесение других, но изменение интерпретации образа, заложенной именно «мелкими» деталями.
Обращает на себя внимание, что, с одной стороны, Вайда включает в киноповествование отсутствующий в романе протокол самоубийства Кириллова, а с другой стороны, выносит за пределы фильма самоубийство Ставрогина. Фильм заканчивается медленным умиранием Степана Трофимовича Верховенского, построенным на метафоре: умереть – уплыть. Его смерть предваряется цитатой (взятой эпиграфом к роману) из Евангелия о бесах, вошедших в стадо свиней, и утверждаемой героем параллелью между евангельской историей об исцелении бесноватого и будущим исцелением России от бесов.
При всей оптимистичности заключительной сцены фильма и последних звучащих в фильме слов (произнесенных, правда, умирающим) в кинематографической версии «Бесов», в отличие от романа Достоевского, остаются на свободе сразу оба главных «беса»: Петр Верховенский и Николай Ставрогин. Вайда в итоге рисует, пожалуй, еще более мрачную картину действительности, чем Достоевский.
Напоследок рассмотрим, сохраняет ли экранизация интертекстуальные связи первоисточника, например, мифологический или мифопоэтический подтекст. Так, среди древнерусских источников «Бесов», отмечаемых исследователями творчества Достоевского, – «Житие Марии Египетской». В «Житии» старец Зосима в поисках монаха, превосходящего его благочестием, встречает в пустыне нагую женщину, бывшую блудницу, которая и оказывается образцом высшей святости. Вернувшись в пустыню через год, он находит ее мертвое тело, рядом с которым написано имя – «Мария». По мнению И.П. Смирнова, Мария Лебядкина обладает многими чертами Марии Египетской. Ее называют Марией Неизвестной, потому что, как и Мария Египетская, она сперва неизвестная. Мария Лебядкина, как и Мария Египетская, почти ничего не ест: на ее столе одна и та же слегка надкушенная булочка. Совпадает и ряд других деталей. В романе звучит и ключевое имя «Зосима»: Лебядкин сообщает Ставрогину, что уже несколько недель он не пьет и вообще «живет как Зосима». Ошибка Ставрогина заключается в том, что он не смог рассмотреть в «последнем» существе – существо первое [16] Смирнов И.П. Древнерусские источники «Бесов» Достоевского // Русская и грузинская средневековые литературы. Л.: Наука, 1979. С. 212–220.
.
Вайда полностью пропускает интертекстуальную связь романа Достоевского с «Житием Марии Египетской». Хотя Мария и одета в платье, через которое видна ее нагота, это скорее дань описаниям героини в романе. Пренебрегает Вайда и другими отсылками к житию. Если у Достоевского Лебядкин говорит, что живет как Зосима, то Лебядкин Вайды заявляет: «Я живу монахом». Вместе с выпавшим из фильма именем Зосимы и другими пропущенными деталями выпадает и житийный подтекст романа Достоевского.
Таким образом, экранизация, как правило, оказывается явлением комплексным, совмещающим в себе разные стратегии подхода к материалу первоисточника и его обработке: от миметического воспроизведения кинематографическими средствами составляющих нарратива до перевода содержания, выражения его другими символическими элементами, до введения в экранизацию новых элементов, отсутствующих в тексте первоисточника. При этом труднейшей и практически невыполнимой задачей является воспроизведение интертекстуальных связей первоисточника.
Как видно на примере «Бесов» Вайды, данные стратегии действуют не изолированно друг от друга, но параллельно, их реализация происходит как в рамках всего фильма, так и в рамках одной линии или одного эпизода. Экранизация в результате оказывается сочетанием разнонаправленных стратегий. Общая же оценка удачности или неудачности экранизации с точки зрения верности первоисточнику далеко не всегда основывается на внешнем сходстве, но зависит от множества факторов. Именно поэтому фильм Вайды при всех недочетах и критическом отношении к нему автора все-таки ближе роману, чем последующие экранизации (и, добавим, театральные постановки самого Вайды).
«Платонов» А.П. Чехова у Никиты Михалкова и Патриса Шеро
О. Давтян (Санкт-Петербург, Россия)
Последние работы театроведов о Чехове и его драматургии значительно выходят за предусмотренные ранее рамки реалистической и даже «новой» драмы XX века, возникают сближения с Э. Ионеско и С. Беккетом [17] Гульченко В. Чехов и XX век // Искусство. Приложение к газете «Первое сентября». 19 (91), май 1998. Специальный выпуск.
. При этом внешний контекст, например, пьеса «Вишнёвый сад», трактуется, с одной стороны, в рамках культуры XX века в целом, а с другой, – в развитии внутренней драматургической относительности характеров, когда теряется жесткость определений «хорошо»/ «плохо». И жизнь начинает осмысляться скорее как текущий во времени процесс, идущий от прошлого к настоящему и будущему. Привлекает и другая тема – Чехов за рубежом, причем не только в рамках обсуждения специфики его переводов, но и в рамках истории или описания восприятия писателя в других странах.
Читать дальше