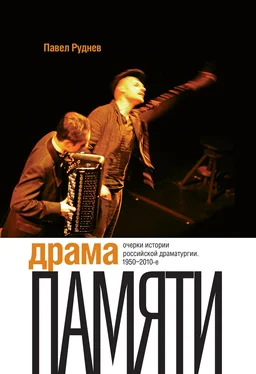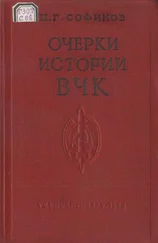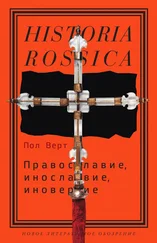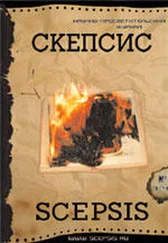Из этого «мелкотемья» вырастает и мир пьесы «Вечно живые», где трагедия войны с ее фатальными для русского народа потерями разворачивается на фоне «мелкопоместных» проблем и упущений частной жизни, и еще глубже – на фоне нравственных мучений юной девушки, запутавшейся в чувствах и ориентирах. Трагедию войны Виктор Розов показывает без военных действий и широких обобщений; он дает почувствовать войну как не-мир в душе частного, маленького, незначительного в государственных масштабах человека, как растерянность, опустошение, отчаяние и, говоря современным языком, депрессию, в которую вгоняется неопытная душа вчерашнего ребенка, потерявшего духовный стержень. Он показывает, чтó война делает не со страной, не с миром, а с маленьким, незаметным человеком (которым военное время обычно пренебрегает). И тут Розов укрупняет эту «малую беду», показывая войну как разрушительницу не государств, а шире – человечности. Сергей Урусевский, оператор фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957), снятого по специально написанному Розовым сценарию, показывает городскую среду как мир кривых и острых архитектурных линий: город словно ощерился против Вероники, изломанные линии противостоят округлости, мягкости женщины. И печенье – неврученный гостинец для солдат – ломается, крошится под натиском ног ополченцев. Война – гуманитарная катастрофа.
«Вечно живые» – о цене поступка. Мучения Вероники связаны с одним ее неверным решением, вымарывать, вырывать которое из своей судьбы ей предстоит на протяжении всей пьесы. Где она просчиталась, в какой момент судьба оказалась навечно искривленной и как выйти из-за затуманенного лишениями войны состояния? Драматург не осуждает героиню (проблема осуждения Вероники – в большей степени тема фильма Михаила Калатозова, драматург Розов такой проблемы не знает); он методично и жестоко проводит ее по всем переулкам кошмарного лабиринта, из которого – как в квесте – можно выбраться только самостоятельно, назвав точную причину своего туда попадания, осознав свою персональную вину в случившемся.
Убивая Бориса, жениха Вероники, в самом начале пьесы, Розов словно канонизирует его, идеализирует, сакрализует страдание воина. Драматург делает его святым страстотерпцем, перед подвигом которого поверяются на искренность все чувства и эмоции, все проблемы и радости живых. Борис живет по известному принципу «розовских мальчиков»: «Если я честен – я должен»; у молодости есть как права, так и обязанности – права на резкость и критику и обязанность совершить подвиг, принести жертву. Так и Олегу Савину перед лицом погибшего отца может быть стыдно за настоящее. Вероника – страдающий герой драмы, «согрешивший» перед ликом этой святости, перед этой нравственной чистотой. Кстати, раз уж Розов в двух своих важнейших пьесах использует этот мотив, интересно поразмышлять о том, что в атеистическом советском обществе воин-мученик оказывается сублимированной «заменой» Иисуса Христа – символа нравственной чистоты. Только павший герой войны, в отличие от Иисуса, не абсорбирует вину человечества в своей крестной муке, а, напротив, наделяет этой виной всех, распределяет ее на все человечество, живущее после подвига. Ту вину, тот неоплатный долг, о которых речь пойдет в финальном монологе «Вечно живых».
В чем трагическая вина Вероники, в чем ее, говоря языком античной драмы, «гибрис» – гордыня героини, за которую протагонист расплачивается всю свою жизнь? Пройдя до конца, она упадет в бездну страдания, достигнет его дна и только через это окончательное падение возродится.
Чтобы ответить на вопрос о вине, нужно понять исходное событие пьесы «Вечно живые». Борис уходит на войну не так, как надо , – с чувством обиды и досады: не понятый невестой, не дождавшийся невесты. Ключ к пьесе – первая сцена, где Розов (что совершенно не характерно для всего его творчества) заставляет героев говорить короткими, рублеными, ершистыми фразами, полными яда, сарказма и недоверия. Вероника неласково встречает Бориса с известием о его решении уйти на фронт. И если стихотворение о журавлях в фильме Калатозова стало названием фильма и метафорой хрупкой девичьей мечты, то в пьесе Розова это фактически манифест глупости, кокетства, эгоизма Вероники, которая никак не может понять, что предлагаемые обстоятельства резко изменились. Любовь должна уйти на осадное положение, эгоизм должен смениться жертвенностью. Первая сцена показывает: мышление «маленького человека» не поспевает за временем, за историей страны; сознание Вероники инерционно ищет лазейки, как бы избежать конфликтного разговора, тяжелого знания, смены тактики. Вероника желает оставаться глупой капризной девчонкой, живущей в пространстве выдумки, когда время требует от нее немедленных изменений, мужества принять реальность. Ершистость женщины тут – система торможения, инерция. В кинофильме Вероника кокетливо играет с одеялом, которым Борис пытается закрыть окно во время налета; для Вероники потребность играть, флиртовать не отмерла с первым днем военных действий. В кульминационной сцене вертепа в квартире Монастырской Вероника нос к носу столкнется с точно такой же, как у нее, формой неприятия реальности. Но в окружении Нюрки-хлеборезки оно обретает преступные, патологические черты: нежелание знать войну, замечать реальность, игнорирование законов общества, непереживание исторического момента, несолидарность с героями, несочувствие к погибшим и погибающим в данный момент. Детская позиция главной героини – «не знаю, не хочу, не буду знать войны» – и станет ее трагической виной, которую надо искупить, пройдя семь кругов ада.
Читать дальше