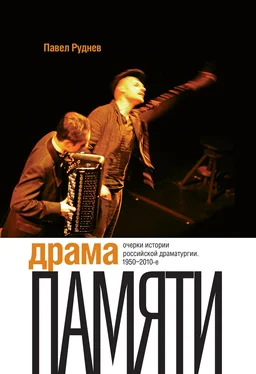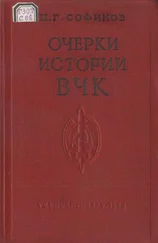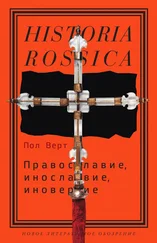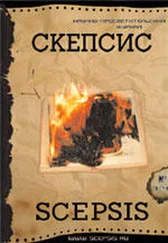У пьесы «В поисках радости» (1956) – причудливое название. Если радость нужно искать, завоевывать, значит, ее пока не существует. Для страны, победившей нацизм, утверждение более чем странное, чреватое излишним драматизмом. В этой пьесе, пожалуй, все ищут свою радость. Все маниакально заняты ее поисками, словно бы радость эта – спасение для каждого. Мир, где радость доселе была дефицитом, сегодня беременен радостью – человек изголодался по счастью. В фильме Анатолия Эфроса и Георгия Натансона «Шумный день» (1960), снятом по этой пьесе, мы видим просторную московскую квартиру, залитую солнцем и радостью нового дня. Пусть шумный день означает и серию семейных конфликтов, но шумная радость, надежда на полноценное освоение жизни – это тот фетиш, который хочется заполучить. Вопрос только в качестве этой радости. Качество, которое каждый из героев понимает по-своему. Для кого-то это радость материальная, позитивистская, радость накопления и потребления (очень понятная в 1950-е!); для кого-то это радость лирическая, бытийственная, радость материнства («дом – полная чаша»); для кого-то это радость без зависимостей, радость прорезавшегося голоса молодости. Движение пьесы можно понимать по-разному, и одна из трактовок такова: главный герой пьесы Олег от детского лепетания, смешных воззрений, нелепых речевых оборотов и поступков движется к осмысленной и дерзкой деятельности, к точности выражения, когда голос Олега-поэта и голос Олега-гражданина совпадают. Кульминационное событие в пьесе (рубка мебели) происходит в конце первого акта, однако Розову понадобился второй акт, где основной конфликт уже погашен. Здесь происходят еще два важных события – более глубоких, более осмысленных, чем хулиганский горячечный выпад с отцовской саблей. Во-первых, герой отказывается от лицемерных, предательских, чересчур «пионерских» отношений с двумя глупыми девчушками-одноклассницами (одна из них предает Олега, рассыпавшегося перед ней в лучших чувствах, другая пытается предать его лирические откровения публичному осуждению). Он становится по-настоящему взрослым – презрев инстинкт во имя чувства собственного достоинства. Новая мораль Розова предписывает не доверять тому, что сминает, уродует чувственный, интимный мир – единственно верный маркер правды отношений.
Второе событие – это «обращение» Лапшина-младшего под воздействием нравственной силы Олега. Геннадий, возвращая сворованные деньги отцу, становится в этот момент самостоятельной личностью. И здесь вырастает личность Олега: он оказался влиятельным и авторитетным, его сила – уже не в импульсивном подростковом поступке, но в его словах, в его искренности, которая может «исправлять судьбы нечестный вариант». Сила открытого слова и поступка, когда Олег взывает к идеалу, оказывается более влиятельной, чем сила репрессивной муштры «отцов». Пробужденная чувственность, открытость торжествуют. А вместе с ними торжествует и надежда на этих новых людей, которым пока еще не доверяют.
Анализ общества, предложенный Виктором Розовым, по сути, ведь очень радикальный, едва ли не цинично-биологический. Говоря о своих «мальчиках» и их прорезавшемся оттепельном голосе, драматург параллельно ведет разговор о поколении «стариков», которые оказываются не мудры, репрессивны и нетерпимы. Ярче всего этот конфликт стариков и детей формируется в пьесе «Неравный бой» (1960), где героям приходится, прилагая недюжинные нравственные усилия, буквально доказывать право молодости на собственный голос, собственное мировоззрение. Старики-монстры предательски выведывают любовные тайны молодых (для любви используется вульгарное слово «котовать», в то время как первые чувства тонки и нежны – «Я целовал твою тетрадку», говорит герой пьесы Слава); они влезают в их жизнь, калечат душу, озлобляют, диктуют и навязывают свой опыт; называют их «поколением с червоточиной», «паршивыми детьми» и «ворами». Война сделала победителей меркантильными и себялюбивыми; война заставила их приспосабливаться, научила стратегиям выживания. И эта инерция распространяется на мирное время: идея комфорта и личного благоустройства захватила сознание старшего поколения, которое, тем не менее, в глазах молодых все равно выглядит авторитетным. Теперь они хотят пожить на полную катушку и диктовать свой успешный опыт молодым в надежде на то, что им будут внимать. Однако молодые, вдохновленные примером отцов, видят, как мельчают их целеустремления в быте, и при этом не находят места для собственного героизма. Долг отдать нечем. Старшее поколение одновременно подает пример того, как надо и как не надо. Скажем, Роман Тимофеевич, главный критик молодежи в пьесе «Неравный бой», допускает грубую шутку: он говорит перепуганной женщине, что только что «война объявлена», словно не вынес никаких выводов из своего военного прошлого и может быть циничным даже на этот счет.
Читать дальше