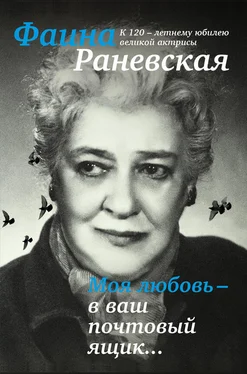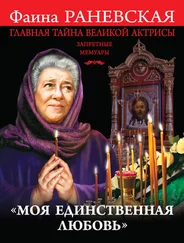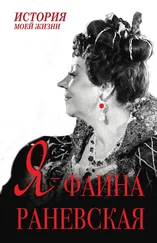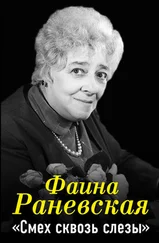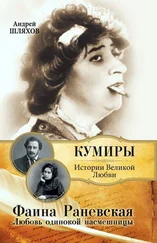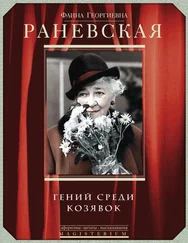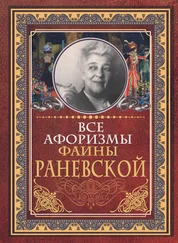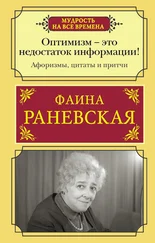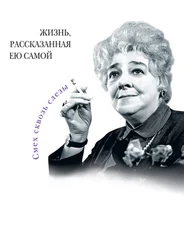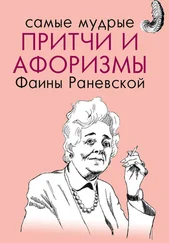Но все добившиеся и признанные, по ощущениям, как-то слишком упорно и цепко придерживались выбранного, «однажды нащупанного» жанра, в коем плотно и удобно укоренялись. На стыках жанров и стилей, видимо, как-то неуютно существовать: не совсем понятно, что конкретно писать в наградных листах, регулярно отправляемых по инстанциям.
А вот Раневская как-то не особенно вписывается в сплоченные ряды «небожителей от Ея Величества Культуры». Но опять-таки по субъективным ощущениям. Комическая, буффонадная актриса… и скорбный философ «а-ля Экклезиаст». «Когда я умру, похороните меня и на памятнике напишите: „Умерла от отвращения“», – заявляла Фаина Георгиевна… И, когда читаешь ее дневники, понимаешь, что просто не можешь в духе Станиславского отрезать: «Не верю!» Скорее, выдавишь: «Увы!»
В ее жизни явило себя не только «смешение жанров», но, прежде всего, гремучий сплав мировоззрений, парадоксальный синтез почти что взаимоисключающих мироощущений. Грустное комедиантство, озорной трагизм, хулиганствующее философствование, эпатажное мудрствование…
И если рассматривать это парадоксальное смешение, то на ум приходит разве что… Леонид Енгибаров, известный как «грустный клоун с осенью в сердце». Да, сейчас бы его назвали «мим», «эксцентрик» или как-то еще. Но ведь он манифестировал себя не привычным «артистом оригинального жанра» – не вполне определенного, а потому и представленного на неких нейтральных сценических подмостках. Нет, он выступал именно в цирке(!), причем в роли обычного коверного! И зритель не всегда готов увидеть пронзительные лирические интермедии – сама личина клоуна подразумевала накатанный односложно-плоский юмор: падения, кривляния, натужное выстраивание смешных рож… да исподтишка трусливые пинки униформистам.
Но взрывать устоявшийся жанр изнутри, превращать его в нечто совсем иное, чуть ли не в противоположное – это дорогого стоит! Вот, видимо, именно поэтому бесславные сонмы ушедших лицедеев манежа начисто забыты зрителями, а клоуна Енгибарова будут помнить еще очень долго!
А ведь ценителям поэзии хорошо известны и верлибры Енгибарова! Еще одна грань таланта, которая ждет своей заслуженной оценки: «Наскучит уют, остынет любовь, и останется только Дорога, и где-то далеко впереди – надежда, что будет любовь, покой (…) но это только мираж, без которого не бывает Дороги!»
Для привычного клоунско-шутовского колпака несколько неожиданно, не правда ли?
* * *
Если посмотреть на десяток золотых киноролей Раневской (то бишь тех, что крепко въелись в память массовому зрителю), то трудно не заметить в них неприкрытый, практически феерически-буффонадный сарказм! Фаина Георгиевна не переигрывает, не превращает своих лирических героинь в некие «небывальщины», а живописует их столь эмоционально яростно, что получается нещадный гротеск. И слово «лирическая» как-то само собой размывается из тщательно вылепленных образов. Зато просятся на язык другие определения: например, «фантасмагорическая» или «убийственно реалистическая» героиня. Из тех, чье амплуа звучит в просторечии как что-то наподобие «Оборжаться, умереть – не встать!», Фаина Раневская, пожалуй, самая загадочно-грустная клоунесса кинематографа. Вначале трудно сдержать улыбку… а затем долго не покидает ощущение щемящей горечи.
Большинство ее ролей – это выпавшие в некую иррациональную завихренность взбалмошные дамы, плутающие по обычной жизни в собственных системах координат, взятых если и не из туманных снов, то точно не от мира сего, а посему вызывающие у зрителей странный спектр эмоций: от доброй снисходительной улыбки до взрывов гомерического хохота. При этом неоднозначность подачи образа все равно оставляет некоторое не совсем ожидаемое послевкусие, что трогательно горчит в восприятии и вызывает долгое странно-тягучее недоумение…
Может быть, станет более понятно, почему в воспоминаниях о Раневской не раз встречаем указания на ее непримиримо-перманентный конфликт с режиссером Юрием Завадским. Тут ведь не простое расхождение характеров! Думаю, что имело место особое метафизическое рассогласование, глобальный мировоззренческий конфликт, практически нестыковка основополагающих внутренних идей о сути и назначении Искусства как такового. Раневская создана для надрывно-гротескных, брехтовских ролей. А Завадский со своим строгим кондовым «академизмом» просто не мог принять таких «забубонных завихрений»! Здесь слово «академизм» уместнее поставить в кавычки. Не строгий канон и классическая школа, а скорее, набор выверено-удобных масок… Что явно не для Раневской! Уж чего-чего, а пафосной дури, нагнетания выхолощенного орфизма, картинного заламывания рук под дежурно-бутафорскую горючую слезу та точно не допускала. Возможно, переболела этим в детстве?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу