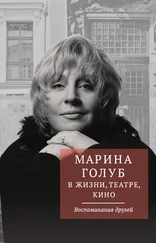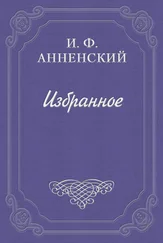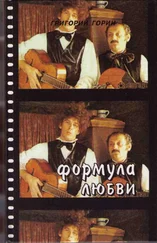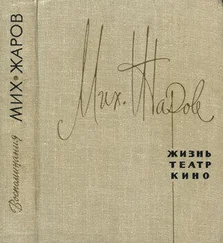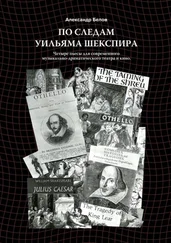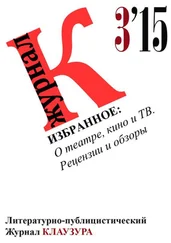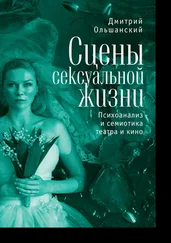Анна – А. Ларионова, Модест Алексеевич – В. Владиславский
«Появление этого фильма, – писала «Правда», – примечательно и в том отношении, что он доказывает, как много у нашей кинематографии творческих резервов. Ведь не секрет, что исполнение ролей молодых героинь в некоторых случаях в течение многих лет оставалось своего рода монополией сравнительно узкого круга известных актрис… кадры киноискусства ждут пополнения людьми, которые до сих пор не получали возможности проявить себя, а вполне готовы к этому.
Лишь в сочетании опыта мастеров с творчеством молодых – залог того, что будут успешно решены многообразные и увлекательные, необычайно широкие задачи, стоящие перед советской кинематографией на нынешнем этапе ее развития» [1]
Помимо молодежи, я приглашал актеров с большим опытом и творческой фантазией. Им ведь предстояло создать типичные, подлинно чеховские образы далекой эпохи.
Как и прежде, даже самые маленькие, подчас бессловесные роли я поручал актерам известным. Так, выразительные, пластические, абсолютно бессловесные образы «двух Аяксов» провинциального бала создали известные опереточные актеры В. Шишкин и В. Заичкин. Характерные, своеобразные типы дирижера и распорядителя танцев воплотили Д. Кара-Дмитриев и А. Румнев. Совсем маленький эпизод сыграл Алексей Николаевич Грибов. Недавно я вновь с непередаваемым волнением и радостью увидел этот эпизод на экране телевизора в передаче, посвященной 70-летию выдающегося актера, народного артиста СССР А. Н. Грибова.
Мне трудно выделить кого-нибудь в ансамбле исполнителей фильма «Анна на шее». Все же я хотел бы отметить В. Владиславского в роли мужа Анны и М. Жарова в роли Артынова. Расчетливый, сухой, педантичный чиновник, человек с рабски-мещанской психологией, трус и карьерист – таков Модест Алексеевич. Бесшабашный, сорящий деньгами, кутила и ухажер, широкая душа Артынов – его противоположность. Владиславский и Жаров играли, как мне кажется, по Чехову.
Но самый чеховский образ в фильме – что было единодушно признано прессой и зрителями – создал А. И. Сашин-Никольский в роли отца Анны – Петра Леонтьевича.
Это – образ трагический. Всю его внутреннюю линию – начиная с эпизода, когда мы знакомимся со старым учителем, играющим на фисгармонии, и кончая эпизодом, где он окружен судебными исполнителями, – Александр Иванович Сашин-Никольский провел на какой-то удивительно точной психологической и эмоциональной ноте. Человек на редкость добрый, деликатный, преданный памяти покойной жены, безмерно, самозабвенно любящий свою дочь Анну и осиротевших сыновей, Петр Леонтьевич беден, обездолен, несчастен. Вот он, обращаясь к портрету жены, кротко просит разрешения выпить горькую рюмку забвения: «Одну! Только одну…»
Но не жалость вызывает он в нас. Напротив, Сашин-Никольский наделяет своего героя при всей его забитости чувством внутренней гордости, человеческого достоинства. Вспомните старого учителя на балу. С какой гордостью восторгается он успехом своей дочери! Какое счастье загорается в глазах, когда она проносится мимо в танце, и как потухают его глаза, когда она не замечает отца. А вот он в доме Анны: согбенная спина, молчаливый упрек в глазах и – уход без единого слова жалобы или упрека. Все это сыграно предельно выразительно – просто, скупо и глубоко.
Образ, созданный Сашиным-Никольским, как бы обобщал целую галерею представителей средней губернской интеллигенции, которые встают со страниц чеховских книг. Они, увы, не могут противостоять давящей силе зла и несправедливости в окружающей жизни, но они и не мирятся с этой силой. Дети своего народа, они живут его жизнью, им близки его думы и чаяния, и они стремятся отдать народу все лучшие силы своего ума, своей души.
Обездоленный, слабый, но внутренне гордый, отец Анны нравственно оказывается куда выше и сильнее своей дочери, покорившей губернский «свет».
Главную, внутреннюю тему образа, созданного Сашиным-Никольским, убедительно завершал финальный эпизод фильма. Лютый мороз. Метель. У крыльца своего дома засыпаемые снегом стоят старый учитель и его маленькие сыновья. Нет, это уже не их дом: только что отсюда вывезли все их имущество, описанное за долги. Мимо, не слыша, не замечая отца и братьев, в вихре и вое метели проносится в роскошных санях Анна со своими поклонниками. Завертевшаяся в высшем свете, который еще недавно казался ей чужим, недоступным, она покорила его. Покорила – ценой душевного оскудения, душевного опустошения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу