Итак, оказавшись взаперти, наши герои должны установить коммуникацию и достичь согласия при отсутствии разделяемых ими смыслов и нехватке объективных свидетельств. Физическая изоляция лишает их внешних подпорок, но одновременно вынуждает обращаться друг к другу. И весьма интересно пронаблюдать, как возникает коммуникация в подобной ситуации.
Прежде всего для возникновения коммуникации нужно какое-то время. И потому время их совместного пребывания нарочито затягивается одним из главных героев, которому кажется, что как-то все слишком быстро проголосовали, даже не поговорив. Когда же время отвоевывается, средствами установления коммуникации становятся ничем, как сначала кажется, не обусловленные нарративные повествования участников, т. е. личные истории присяжных. На первый взгляд каждая из рассказанных ими историй не относится к делу и первоначально вызывает недоумение окружающих, порою даже воспринимается как откровенный бред. Но постепенно каждая такая история превращается в особый род «свидетельствования». На наших глазах разворачивается своеобразный парад нелогических логик, когда каждый рассказчик предлагает вместо логического обоснования возможного решения некий личностно окрашенный образ и свою очень личную и глубоко выстраданную историю, которая к концу непременно выводит нас на некую мораль, пусть даже весьма примитивную, в стиле «добру нужно помогать». И действительно, все эти истории не имеют прямого отношения к делу. Просто мужчины по очереди презентуют самих себя. Но важно то, что у каждого из них находится свое основание аргументации, свой способ свидетельствования, проистекающий из важных фрагментов личного опыта. Эти люди очень разные, и доводы у них очень разные. Но их объединяет одно немаловажное свойство – все повествования покоятся на нелогической аргументации, и все они по-настоящему выстраданы говорящими и потому находят немедленный отклик у других участников. В итоге доводы становятся убедительными не потому, что логичны и доказательны с формальной точки зрения, а потому, что они искренни и являются плодами глубоких внутренних переживаний.
Например, Таксист, представляющий работяг (в исполнении Сергея Гармаша), предлагает, по сути, опираться на силу и мочить иноверцев, пока сила на твоей стороне и пока они не замочили тебя.
Логика насилия соседствует с логикой страха и является оборотной стороной той же медали. Телевизионщик (Юрий Стоянов), показывающий, кстати, пародию на сына телемагната Ирины Лесневской, дает нам карикатурный образ представителя средств массовой коммуникации. С его помощью демонстрируется логика страха перед насилием. Легко провоцируется игра воображения, и вот в твою комнату входит чеченец с ножом, убивает членов твоей семьи и перерезает тебе горло. Телевизионщик сам даже ничего не рассказывает (за него это делает Таксист), но он становится подлинным олицетворением этой логики страха, немедленно побуждающей его менять свое мнение на «Виновен».
Физик, представитель естественной науки (в исполнении Сергея Маковецкого), проповедует логику силы слабого звена. Она указывает на то, что в самой гибельной ситуации, если найдется хотя бы один человек, который отнесется к тебе с пониманием, ты еще не потерян. Пока остается хотя бы один ничтожный шанс на спасение, твоя игра до конца не сыграна. Пока существует один незначительный, но недоказанный, неубедительный или неверно истолкованный следствием эпизод (например, неуникальность ножа, которым убили жертву), нельзя считать человека виновным.
Эту логику усиливает Еврей (Валентин Гафт). По его мнению, следует задумываться, не совершая скоропалительных действий, и, главное, допускать невероятное, поскольку в этом мире возможно все, включая самое невозможное. А потому следует допускать, что обвиняемый человек не виновен, даже если все свидетельства мира обращены против него. Кому-то из присутствующих это кажется своего рода вывороченной еврейской логикой, но он по-своему убедителен и предъявляет в качестве «доказательства» историю своей собственной семьи.
Убогий Метростроевец (Алексей Петренко) представляет образ даже не рабочего, а, скорее, какого-то колхозника. Но у него есть свой особый взгляд. Им предлагается логика человеческого снисхождения. Она говорит о том, что даже если человек оступился и со всей очевидностью нарушил закон, т. е. если преступление реально совершено, то с нарушителем все равно нужно поступать не по закону, а по-человечески.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


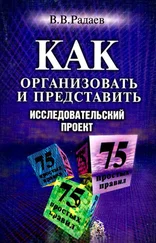

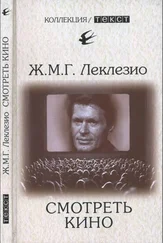


![Данила Кузнецов - Язык кино. Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра [litres]](/books/415652/danila-kuznecov-yazyk-kino-kak-ponimat-kino-i-pol-thumb.webp)




