В российских реалиях 2020 г. дело до грабежей и мародерства, как в фильме, не дошло, по крайней мере пока. Но нам приходится помнить, что культурный слой удивительно тонок. И он способен прорываться, если внешние силы сдерживания ослабевают, а к волевым усилиям над собой люди не привыкли. В таких условиях легко поддаться массовому поведению, которое имеет свои законы, тоже по-своему «заразно» и обладает изрядной силой воздействия – с быст-рым распространением импульсов, мультипликацией эффектов и резкими (порою радикальными) колебаниями. Здесь особенно важно, в какую именно сторону направлен исходный вектор человеческих настроений.
Контрасты между поколениями
Важная тема – как складываются в подобной ситуации отношения между поколениями. Сегодня принято считать, что молодые поколения (миллениалы и зумеры) в целом более уязвимы, в частности, потому, что это первые поколения, которые воспитывались под более плотным родительским контролем (так называемый helicopter parenting). Эти поколения в детские и юношеские годы почти никогда не оставались одни, все время пребывая под надзором старших. В итоге, подрастая, они больше своих предшественников заботятся о безопасности (физической и психологической), исходно более предрасположены к тревожности и депрессиям [121] Подробнее об этом см.: Радаев В.В . Миллениалы: как меняется российское общество. 2-е изд. М.: Изд. дом ВШЭ, 2020; Твенге Дж . Поколение I. Почему поколение Интернета утратило бунтарский дух, стало более толерантным, менее счастливым – и абсолютно не готовым к взрослой жизни. М.: Рипол-Классик, 2019.
. На фоне распространения вируса забота о собственной безопасности у них еще более обострилась. И не случайно ВЦИОМ по результатам одного из своих опросов в период пандемии обнаружил, что больше всего «паникующих» именно среди молодых людей, которые впервые в жизни столкнулись с серьезным кризисом.
Пандемия коронавируса отчасти перевернула поколенческую ситуацию: теперь именно пожилые люди считались гораздо более уязвимыми, это было закреплено в качестве официальной позиции. И действительно, в целом усилилась искренняя забота о старших в желании уберечь их от вируса и вызываемых им осложнений. Но потенциальный конфликт пришел с другой стороны. Старшие начали обвинять молодых (не всегда справедливо) в том, что они не хотят менять свой образ жизни, подвергая своих ближних опасности. Вирус даже преподносился чуть ли не как «заговор» молодежи против старших поколений, инструмент для освобождения рабочих мест для молодого поколения в период, когда людям старше 65 лет было запрещено выходить из дома.
И все же мы полагаем, что главные и наиболее долгосрочные последствия пандемии проявятся именно у молодых поколений. В 2020 г. мы все попали в ситуацию шока, но переживали ее по-разному. Старшие поколения, при несомненно большей физической уязвимости ввиду общей слабости здоровья, вероятно, устойчивее в психологическом отношении, имея за плечами солидный опыт разного рода катаклизмов. В итоге последствия пандемического шока будут особо чувствительными для молодых миллениалов и зумеров, у которых в формативные годы (период взросления) образовался этот травматический опыт.
Онлайн-образование: между эйфорией и депрессией
В период пандемии произошел массовый переход в онлайн – к дистанционной работе, учебе, общению. И, если начать с образования, выяснилось, что технически и организационно мы показали готовность к такому переходу, хотя, разумеется, не обошлось без дополнительных усилий. Конечно, успешность перехода во многом зависела от предварительной подготовки. Например, Высшая школа экономики перешла в онлайн весьма эффективно, поскольку до этого уже более пяти лет активно инвестировала в онлайн-образование, имея к началу эпидемии в своем багаже более 200 онлайн-курсов, образовательные специализации и даже онлайн-магистратуру, а также почти 3 млн слушателей на глобальной платформе Coursera.
Иными словами, переход к дистанционному образованию для многих не стал абсолютной неожиданностью, но пандемия сильно ускорила и форсировала этот переход. В результате в чем-то мы, несомненно, выиграли – в удобстве, гибкости, доступности образовательных услуг. Уже к концу 2020 г. в Высшей школе экономики сотни учебных курсов читались студентам из разных кампусов, расположенных в нескольких городах. Были приглашены десятки профессоров, читающих лекции из разных концов земного шара. Оказалось, что рабочие совещания онлайн проводить удобнее, да и работать из дома часто сподручнее. На этом фоне возникли элементы эйфории в отношении перспектив онлайн-образования, начали строиться своего рода утопии и антиутопии про его будущее, за ними последовали попытки массированного и форсированного переноса образовательных услуг в онлайн, конечно, с непременными оговорками, что сегодня мы вынуждены это делать, но с намеками на то, что завтра многое из внедренного благополучно останется с нами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


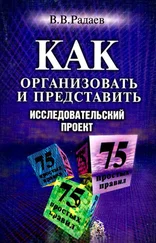

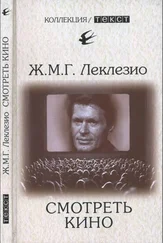


![Данила Кузнецов - Язык кино. Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра [litres]](/books/415652/danila-kuznecov-yazyk-kino-kak-ponimat-kino-i-pol-thumb.webp)




