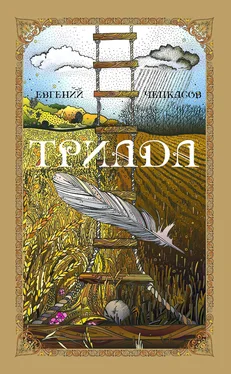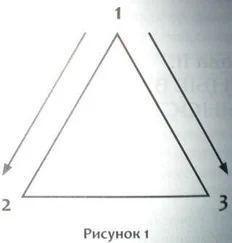– Лапша из пакетов и риса немного осталось.
– Лапша так лапша.
Юноша пообедал на кухне, чтобы не видеть идиотичного телешоу. Во время трапезы он думал о Петруше – точнее, о его прототипе. Троллейбусный проповедник ассоциировался с неким прицерковным нищим – хромоногим и придурковатым. Гена уже более года не видел того нищего, и было непонятно, почему при написании вымышленной сценки с тыканьем перстом возник образ хромоногого. Весьма загадочным было и то обстоятельство, что параллельно с нищим вспоминалась больница, где Валерьев прошлой зимой лежал с воспалением легких. Болел тяжело, едва выкарабкался – случай, достойный описания, – но в контексте нового рассказа о нем говорить незачем, а пьянехонький Петруша тут и вовсе ни при чем. Странно, одним словом.
Ближе к вечеру юноша вновь засел за рассказ: хотел добить воспоминания о лагере, чтобы потом, не отвлекаясь, разрабатывать основную симметричную антитезу (именно так он и подумал, усаживаясь писать, – «добить воспоминания о лагере»). Сперва Валерьев перечитал написанное утром и кое-что выправил, потом проделал то же самое с куском, который начинался с утверждения, что «студенческий лагерь – довольно приятная штука» и заканчивался воображаемым возвращением в летаргически спящий лагерь.
– А затем можно подойти к жизни и смерти и, вежливо поклонившись обеим дамам, поинтересоваться, сколько бабочек они поймали в мое отсутствие, – с удовольствием прочитал Гена и застрочил дальше.
Так, по крайней мере, мне грезилось несколько раз, и грезы эти становились почти навязчивыми. Но сейчас, шагая в гору и пропуская меж пальцев липкое тесто воспоминаний, я понял, что никогда уже не вернется та романтическая блажь. Ее навсегда вышиб мясистый палец Петруши, угодивший мне в солнечное сплетение. Прав, прав был троллейбусный прозорливец, причислив и меня к зверям!
И я вновь затеплил мысль, притушенную скопищем воспоминаний: «А в лагере-то, в лагере – совсем оскотинился!»
Студенческий лагерь уже не казался «довольно приятной штукой», он ассоциировался со свинарником – свинарником, правда, чистым, благоустроенным, приятным даже в своем роде, но – свинарником. И обитали в том свинарнике здоровенькие жизнерадостные поросятки: в урочный час они вприпрыжку бежали к кормушке, а в перерывах между кормежками занимались разным: кто-то гулко стучал картишками по гнутой юбочке железного мухомора, кто-то сладострастно глядел на миниатюрную шашечную доску, где наклевывалась такая комбинация, что лучше посмотреть в сторону. А там, в стороне, кто-то, почесывая бычью шею, глядел на голубую дверь, потом гулко стучался и сладострастно слушал мягкие шаги девочки в облегающей юбочке…
Впрочем, я был ничуть не меньшим свинтусом: я тоже только тем и занимался, что играл в бадминтон и картишки; частенько я заглядывался на двери женских палат с тем же чувством, что и на обворожительную шашечную россыпь, и прикидывал возможные комбинации, но тут, к счастью, дело дальше помыслов не пошло. А как я молитвенные правила соблюдал – зашибись! Куда уж там до меня старцам-аскетам… По приезде в лагерь я чуть ли не мучился: да как же быть, ведь нельзя же лечь спать без молитвы… Можно, оказывается! В первую ночь я на коротенькую культю времени остался один в палате на шестерых: трое зарулили к своим пассиям, двое отлучились по делу более прозаическому… Вот тут-то я как вскочу с постели, как приостановлюсь на мгновение, вычисляя восточный угол, и – к нему, родимому.
Но я еще не успел дочитать «Отче наш», когда послышались шаги, и я примолк на полуслове, и забыл горнее, и, зыркнув на дверь, пугливо юркнул в постель. Застыдился! А может, и правильно сделал, что не молился при других, – ведь смеялись бы надо мной, юродивым считали… Нет уж, вру, отмазки леплю – просто струсил, и всё тут.
Потом я пробовал молиться тайком, лежа в постели, но как вам понравится, если в Символ веры, мысленно читаемый вами, внезапно вклинивается чей-то скабрезный анекдот, хотя бы про ту же рыбоньку, и вы вынуждены смеяться? Грех один, да и только. Утренние молитвы я еще кое-как читал, пока одевался и шагал зябкой ранью к нужнику. Но на четвертый день я и вовсе прекратил молиться, даже перед едой, и стал точно таким же поросенком, как и остальные солагерники. И ни разу ведь не вспомнил, что был человеком!
«Да, оскотинился я в лагере, оскотинился! – устало как-то и почти машинально подытожил я. – Вот только с чего я взял, что другие солагерники не молились, – следил, что ли? Так что я был грешником, а кто остальные – не мне решать».
Читать дальше