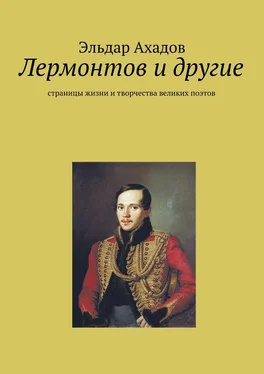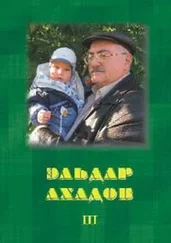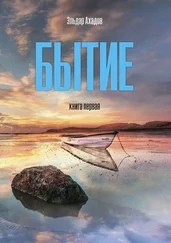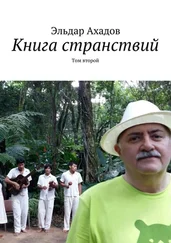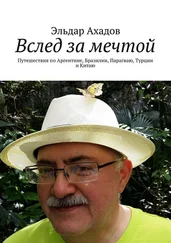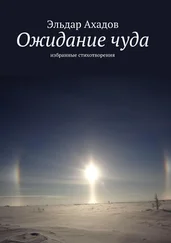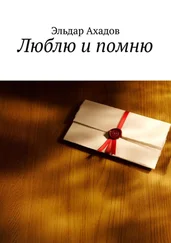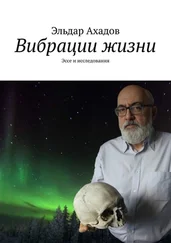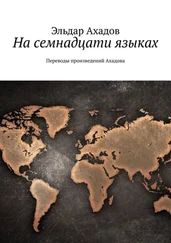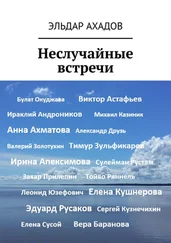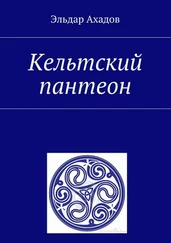На мой взгляд, древнее население севера продвигалось вдоль побережья с запада на восток, занимаясь именно морским промыслом, а не оленеводством, примерно тем же образом, каким русские поморы проникли в Сибирь около четырехсот лет назад – на лодках и кораблях. Хорошо известно, что русские проникли в верховья Енисея именно водным путём с севера, а не с запада сухопутным.
«В поддержку этой теории выступил СА. Шлугер, который на основании собранных им обширных материалов пришел к заключению, что «ненцы по своему расовому облику не однородны и делятся на две большие самостоятельные группы или на две различные расы: на лопаноидную расу, доминирующую у ненцев Архангельской области, и кетскую, преобладающую в Приполярье Омской области». … Д. В. Бубрих на основании лингвистических сопоставлений высказал следующие соображения: самоедский язык обнаруживает большую близость к западным группировкам финно-угорских языков (лопарские, прибалтийско-финские, мордовские, марийские), нежели к восточным (пермские и угорские). Особенно он близок к лопарской группировке. (Хомич Л. В. Ненцы. Очерки традиционной культуры – С.-Петербург: «Русский двор», 1995).
Завершить это повествование о сихиртя – первых жителях Ямала, хотелось бы ещё одной легендой, рассказанной Головневым А. В., Зайцевым Г. С. и Прибыльским Ю. П. (История Ямала. – Тобольск: Яр-Сале, 1994, с. 12—14):
«По легендам, в незапамятные времена сихиртя пришли на Ямал из-за моря. Сначала они поселились на острове, а затем, когда его берега стали обрушиваться под ударами штормов, переправились на полуостров. Конец «эры сихиртя» и наступление «эпохи ненцев» («людей») подробно описывается в ярабц» «Няхар» Сихиртя» (сказитель Пак Худи). Вкратце содержание мифа таково.
На Лад яра Саля (Мысу с песчаной вершиной) находится стойбище трех братьев-сихиртя, с которыми живет их сестра. Однажды к ним прибывают посланники владыки нижнего мира Нга с требованием отдать ему в жены девушку-сихиртя. Получив отказ, Нга сокрушает землю – в небе сходятся черная и белая тучи, раздается удар грома, перевернувший Лад яра Саля вверх дном. Лишь девушка-сихиртя чудом уцелела, оставшись в беспамятстве лежать на нарте. Очнувшись, она обнаруживает, что чумы ее братьев погрузились под землю, и отныне им уготована жизнь в сопках.
В дальнейшем героине удается извлечь из-под земли трех своих племянников и при их участии восстановить жизнь на Лад яра Саля. Первенствующую роль в этом сыграл Мандо мянг – герой, пришедший на семисаженных лыжах со стороны восхода солнца. В конце концов, главные стихии мира – небо, вода и подземелье – признают могущество новых героев и подчиняются им. Так рождаются ненецкие боги.
Перерождение героев-сихиртя в ненецких богов можно считать свидетельством преемственности двух культурных традиций. Что касается «переворота земли», то в нем видится символическое описание действительного потрясения – или природно-климатического кризиса, или военных баталий. В других сказаниях причиной ухода сихиртя под землю называется нашествие ненцев-оленеводов. Вероятно, и упадок хозяйства, связанный с истощением охотничьих угодий, и межэтнические конфликты сыграли свою роль в исчезновении («уходе под землю») сихиртя.
Вместе с тем несомненно, что часть сихиртя влилась в состав ненцев. Другими словами, сихиртя – не только предшественники, но отчасти и предки ненцев (большую часть которых составили выходцы из приобско-уральской тайги). Вполне возможно, что ненцы унаследовали от сихиртя некоторые хозяйственно-культурные традиции (приемы охоты на морского зверя, рыболовства, религиозные представления). Следует также иметь в виду, что за собирательным фольклорным образом «сихиртя» скрывается огромная эпоха дооленеводческой истории Ямала, протяженность которой измеряется несколькими тысячелетиями. За это время произошло немало миграций, войн, культурных изменений. Поэтому сегодняшний разговор о сихиртя – лишь первый шаг к познанию ямальских древностей».
«Суди о жизни по силе и шуму ветра» говорит главный герой сказания «Единственный сын старика Лабта»…. Каждый человек – живое облако, над которым трудится ветер времени. Меняются формы облака и его пути. Однажды, оно исчезнет так же, как и возникло из небытия. Но ветер времени будет дуть и шуметь по-прежнему. И жизнь не иссякнет.
Много раз слышал я эту народную песню, исполняемую разными певцами, и просто мелодию… но только сегодня вдруг осознал, что завораживающая тайна её многовековой популярности не только и не столько в описании чувств молодого человека, осознающего безнадежность своей любви к девушке… а, может быть, совсем в другом – в безнадежном чувстве глубокой ответной, но так и неразделенной любви. Любви к Родине своей. Родине, которую человек вынужден покинуть навсегда. Сары гялин! Осенняя невеста – это вся наша щедрая Осенняя страна, пахнущая свежими вкуснейшими яблоками и плодами граната, покрытая увядающими листьями нежного айвового цвета, пахнущая теплым материнским хлебом из тандыра и свежим овечьим сыром… Сары гялин – осенняя земля родины, земля цвета спелой пшеницы, яблок, хурмы, айвы, груш, солнечная земля мечты, на которую кому-то уже не суждено вернуться никогда… ибо жизнь коротка, а путь к Сары гялин – бесконечен, как надежда и вечное прощание… Как эта песня о безграничной любви к солнечной девушке-осени… Спросите у любого, кто находится далеко от родины: какую мелодию вспоминает он, когда тоскует о своей земле? Государственный Гимн? Оперу «Кёр оглу»? Или песню «Сары гялин»? И сто человек из ста скажет: «Сары гялин». Эта песня, как «Темная ночь» Марка Бернеса во время Великой Отечественной войны, гораздо ближе людям, чем любые гимны и любые парады. Что попросит спеть в последние минуты жизни умирающий? Государственный гимн? Или «Сары гялин»? О чём он вспомнит? О государственном флаге или о теплых руках своей матери, о родном дворе, о юности своей и о спелых губах любимой, которую он так и не целовал никогда?.. Ответ понятен…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу