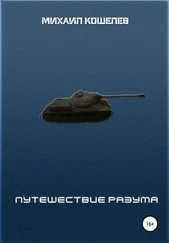Все нынешние обитатели Лобнорской впадины и нижней Яркенд-дарьи суть выходцы из Северной и Западной Кашгарии, поселившиеся в этой стране около 400 лет тому назад. До переселения их в ней жили монголы, укочевавшие потом частью на север, в Тянь-шань, частью на юг, в страну Цайдам. Первые колонисты из Северной и Западной Кашгарии застали еще на нижней Яркенд-дарье и в озерной впадине часть монгольских стойбищ и жили сначала вперемежку с монголами, оставившими впоследствии в их владение эту страну. Общение с монголами не осталось бесследным на колонистах: в их тюркском наречии доныне сохранилось много чистых и искаженных монгольских слов, оно не обошлось, повидимому, и без метизации пришельцев с аборигенами, выразившейся в более сильном уклонении типа теперешних обитателей страны сравнительно с жителями Западной Кашгарии, к чистому монгольскому облику. Затем, во всем остальном туземцы нижней Яркенд-дарьи и Лобнорской впадины ничем не отличаются от обитателей прочих местностей Кашгарии, кроме немногих обычаев и обрядов. Так, например, здесь отец невесты берет с жениха калым скотом и деньгами в размерах от 5 до 8 штук крупного рогатого скота, от одной до трех лошадей, или же от 10 до 20 овец с придачею серебра от 5 до 10 лая (12--24 рубля). Этот обычай, не существующий в остальной Кашгарии, перешел к обитателям котловины,вероятно, от монголов. Лобнорцы не засыпают могил, как в прочих местностях Кашгарии, а покрывают их жердями, на которые настилают войлок или тростник и забрасывают только слегка землей. Внутренность могилы считается священною, и в нее никто не осмеливается проникать.
К востоку от Лоб-нора, по рассказам туземцев, простирается на семь дней пути бесплодный, кочковатый солончак, а далее в том же направлении залегают большие пески Кум-таг, тянущиеся полосою почти в два дня пути шириной вдоль подножья хребта Алтын-таг до оазиса Сачжоу. В этот оазис существовала ветарину прямая дорога из Черчена, давно уже оставленная. Однако при Якуб-беке по ней ездили туда разведчики для наблюдения за передвижением китайских войск. Указанная дорога пролетала близ подошвы Алтын-тага по южной окраине песков и была доступна только дляверблюдов, да и то лишь зимой. Верблюжий подножный корм на ней встречается повсюду; для лошадей же корма очень мало, и безводные станции простираются до 70 верст.
В песках Кум-таг водится много диких верблюдов, за которыми позднею осенью и зимой ездят туда некоторые из чакалыкских и лоб-норских охотников. Они подкрадываются к верблюдам в то время, когда последние пасутся, и стараются подойти к ним сколь возможно ближе, чтобы попасть в голову или сердце. По словам охотников, дикие верблюды, будучи легко ранены, уходят очень далеко от стрелка, и потому их крайне трудно преследовать. Нам приносили шкуры двух убитых в песках Кум-таг верблюдов, которые, к сожалению, оказались негоднымми для коллекции. Охотники уверяли, что дикие верблюды, живущие в песках Кум-таг, крупнее тех, которых им приходилось видеть и убивать в песчаной пустыне к западу от урочища Ваш-шаари.
К северу от песков Кум-таг простирается на день пути солончак, а далее тянутся широкой полосой невысокие пустынные горы Курук-таг, направляющиеся с северо-запада на юго-восток от Курли почти до самого Сачжоу. Между ними и окраинным хребтом Алтын-таг заключается пространная долина, покрытая в южной части песчаными барханами Кум-тага и имеющая в западной части около трех дней пути, а на востоке, при оконечности гор Курук-таг, суживающаяся до двух переходов.
Страна к северу от соединенных озер, между древним ложем Яркенд-дарьи, Ширта-чапкан и горами Курук-таг, по рассказам туземцев, представляет тоже песчаную пустыню, не имеющую названия. Внутренность этой пустыни, не пересекаемой ни одной дорогой, совершенно неизвестна туземцам. Они ездят зимой за топливом только в южную окраину ее, соседнюю помянутому ложу. Там пустыня состоит из небольших, плоских песчаных бугров, покрытых изредка тамариском; далее же, в глуби пустыни, эти бугры совершенно обнажены, но высоких песчаных барханов в ней не видно.
Собирая от туземцев Лобнорской впадины сведения об окрестной стране, я, между прочим, спрашивал их о развалинах. Все опрошенные мною туземцы единогласно уверяли, что, кроме остатков небольшой крепости к востоку от урочища Мюран, в их стране нет никаких развалин не только в самой впадине, но и на плоском предгорье Алтынтага. Относительно этой впадины можно заметить, что бесплодная солончаковая почва ее исключает возможность существования в ней земледельческих поселений.
Читать дальше
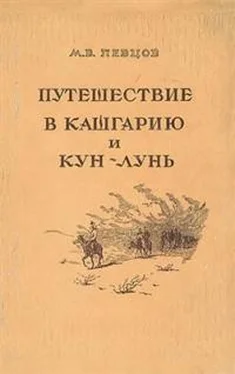
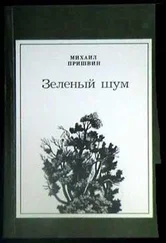



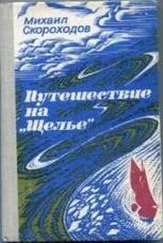

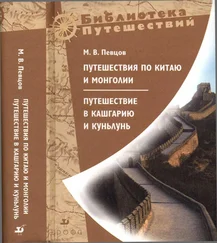

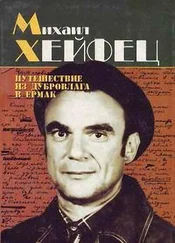
![Михаил Будыко - Путешествие во времени [Сборник эссе]](/books/405710/mihail-budyko-puteshestvie-vo-vremeni-sbornik-esse-thumb.webp)