С утра вазиры и афридии приводят себя в состояние воинственного возбуждения, которое к четырем-пяти часам дня доходит до экстаза. Они пляшут могучими ястребиными кругами, боевыми братствами. Каждое племя под своим треугольным знаменем, обожженным в пороховом дыму восстаний и набегов. Блестящие черные волосы танцоров взлетают и опускаются опять, как стая воронов над полем битвы. Они кричат, палимые тропическим солнцем и этой музыкой, обжигающей внутренности.
В середине круга, в середине черного колеса, в венке из острых волчьих криков ходит один, холодный, осторожный и жестокий. Его голова выбрита, и три клока волос на голом черепе напоминают облик древних китайских воинов. В солнечный день среди тысячной толпы он танцует ночь, пустыню и одинокое преследование. Потом убийство и радость черного от крови меча. Осушая его в песке, целуя трепетный свет и черноту его старинных изречений, ходит воин среди круга, ничего не видя, но безошибочно-быстрый и вкрадчивый, как помесь человека и желтой, легкой, могучей кошки.
Полдень, закат, ночь…
Он все ходит, как неутомимый жнец, приземистый, крепкий и неторопливый. Его меч о двух лезвиях, расколотое пополам новолуние, караулит и казнит, горит кровью бесчисленных ран, вызывает из земли противника за противником и всех убивает.
И вот что самое главное. Танец племен — не старинный обряд, не художественная традиция, а правда. Они танцуют то, что вчера было у Хайберского прохода, что завтра может повториться под стенами форта Макин.
Они танцуют не просто войну, но войну с Англией. Тени, падающие под мечом одинокого воина, — это реальные, живые люди в белых шлемах и пыльном хаки, это ныне здравствующие мистер Хемфрис и сэр Добс, это убитый пятьдесят лет назад в Кабуле генерал Каваньяри, — это они, и тысячи других, безыменных, без вести пропавших в джунглях и на перевалах, в песках Афганистана, Памира и Индии.
Под ногами пляшущих вазиров клубится не пыль, а полчища, тучи саранчи цвета хаки, налетевшей с юга и запада, поразившей самые маленькие, запрятанные в горах пастбища пограничников, отравившие их колодцы своими безликими останками и ползущие дальше, через пустыни, вечный снег и голые камни. Племена топчут их ногами, но бесчисленные, безыменные истребители просачиваются везде, им нет числа и меры, конца и названия. Они — тли, им не опасен меч, выкованный во времена Александра…. Тогда вдруг все круги пляшущих размыкаются, музыка сливается в пламенный рев, воины — в одну голую горячую стену, все черные взлетающие гривы — в один грозовой, черно-синий пламень, мечи над головой, и пыль, как дым, и пляска, как пожар.
«Горим, горим», — хрипит музыка, и на саранчу в мундирах хаки, на полчища тлей-завоевательниц обрушивается чистый и безжалостный огонь.

Горит трибуна, вся площадь, небо, горы, вся страна и весь народ, и сквозь грохот этой победы, несущейся вскачь, с обугленным лицом, эмир кричит голосом, покрывающим все:
— Саламат бад истеклал-и-Афханистан!..
«Никаких концессий я не получу. Надо уезжать». Вандерлип щелкнул эмира кодаком и пошел к своей палатке.
Он, воплощение скорости, уехал из Кабула в старомодной, чудовищно-неповоротливой карете. Перед ним в углу сидел его михмандар, нестерпимый, как и все михмандары Востока, своими пытливыми очками, чрезмерной любезностью и острыми коленями, торчащими всюду, куда ни потянись. Вандерлип уже придумывал обходную дугу своей магистрали, которая делала ненужным Афганистан. Стук расшатанных, гремучих колес по щебню напоминал ровное пульсирование поезда, и мысли выравнивались бесконечными параллельными нитями, закрепляясь то цифрой, то горизонталью итогов, как телеграфные проволоки от столба до столба. Вандерлип никогда не возвращался назад и не жалел о совершенном. Но в данном случае его беспокоил не самый факт неудачи, но ее полная необъяснимость. По кожаному верху кареты успокоительно стучал дождь, точно кто-то большой сидел в этой темной ночи, рассеянно барабанил пальцами и тоже думал: почему?.. почему?.. почему?..
«Нет, нет, — припоминает Вандерлип, — они не так глупы. Не так уже глупы».
Кучер хлещет мокрых, горячих лошадей там, снаружи.
«Они упрямы, да, но дело не в упрямстве, не в одном упрямстве. И эмир — крупный человек. Мне пригодился бы такой энергичный и деловитый парень в Калифорнии. Вечные забастовки на этих приисках. Да».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
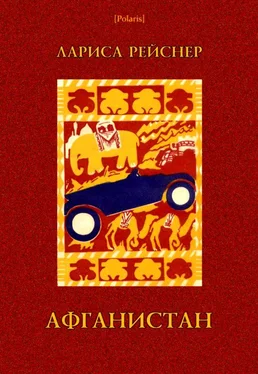






![Елена Майорова - В огне революции [Мария Спиридонова, Лариса Рейснер]](/books/400979/elena-majorova-v-ogne-revolyucii-mariya-spiridonova-thumb.webp)





