VII
Из Кушки до Герата
Ночь, — надо начать с нее.
После целого дня, проведенного в седле, после солнечного жара, медленно растущего от рассвета к белому полдню и, как река, разливающегося к вечеру, ночь — такое огромное счастье, награда за всю усталость, слабость и жажду.
Дорога, горячая и каменистая, идет из одной мертвой долины в другую, от песчаных гор к плоскогорьям, ровным, твердым, похожим на плиту необозримой могилы, с которой вечность давно стерла надписи.
Степь, только степь, и по краю ее плавные, убегающие друг от друга отроги Гиндукуша, над ними бледное, зноем истерзанное небо.
И все-таки жизнь не вся выпита солнцем. Она только пригнулась лицом на пески, затаила дыхание, бесконечно смирилась. Но в пыли, в увядшей листве — везде живое. Пепельные ящерицы оставляют на пути извилистые следы; упрямые скарабеи среди золота и янтаря раскаленной дороги скатывают свои навозные шарики. В колючих кустах шелестит саранча, кузнечики дождем сыплются из-под конских копыт, и воздух полон их сухой скрипичной музыкой.
Проходит час, другой, третий, — время превращается в длинную, красную ленту, дорога — в содрогание и толчки сердца. Зной опьяняет, солнце нагибается так близко; оно обнимает голову, проникает в глубину мозга, осеняет его длинными и вместе мгновенными вспышками.
И тогда мне предстает Белая Азия, голая, горячая, на раскаленном железном щите.
VIII
Изредка в песках оазис: из-под камня выбегает ключ, и люди и животные жадно приникают к его певучей, прозрачной, целомудренной поверхности.
После короткого отдыха трубит гортанный рожок, дикая кавалерия афганцев обгоняет пурпурные носилки, которые медленно и ритмично покачиваются между двух лошадей. Вьючные кони, цепью скованные друг с другом, продолжают свой путь, и только изредка какой-нибудь горячий жеребец с нетерпеливым ржанием старается сбросить со спины гнетущие ящики. Постепенно долина сменяется холмами, и первые всадники вступают на горный перевал. Дикая и прелестная картина: горы как-то неожиданно, почти внезапно сменяют плоскогорье.
Лава, железо и коричневый мрамор висят зубчатыми глыбами над краями прохладных пропастей, вдоль которых солнце медленной золотой завесой опускается в неизмеримую глубину. Их непередаваемый беспорядок и великая стройность не изменялись со дня мироздания, они лежат здесь на краю мира, точно в никому неведомой мастерской, приготовленные для постройки, для творческого акта, который не совершился. Вот над пустотой, пронизанной полуденным жаром, прямые и мощные столпы: само небо могло бы покоиться на их несокрушимой вершине. Вот глыбы, положенные в основание дворца, вот башни, поднятые к солнцу и не знающие головокружения на своей орлиной высоте. В минуту самого жгучего желания жить, когда горы громоздились друг на друга, и среди ликований и каменного скрежета строилась новая вселенная, в пламени и кипящей крови металлов прошла охлаждающая смерть: все остановилось, застыло, уснуло. По лицу земли, искаженному творческой мукой, потекли ледяные ручьи.
Лошади, осторожно ступая сухими и крепкими ногами, спускаются, наконец, на дно новой долины, где по каменистому ложу бежит горная река. Вздрагивая ушами и глубоко дыша, они пьют чистую и холодную воду. Вокруг великая тишина, горные склоны снизу кажутся совсем отвесными, и на одном из них, блестя повязкой из голубой эмали того действительно неизъяснимого цвета, какой разучились приготовлять современники, высится конусообразная башня — сторожевой пост Тамерлана.
Дальше, уже на краю пустыни, лежит его дворец, преданный разрушению и шакалам. За квадратной высокой стеной — груды опавших кирпичей, но внутри еще цела прохладная сводчатая палата с широкими очагами, с уступами для приготовления пищи и удобными сиденьями. В потолке, среди запутанных граненых сводов, похожих на раковины, узкие отверстия, теперь пропускающие солнечный свет и диких голубей. Раньше через них выдыхался густой и пряный запах жареного мяса, заправленного шафраном и лимонными корками, — может быть, меланхолически-воинственные песни Саади, бряцание кувшинов и оружия. По мановению руки, длинной и желтоватой, с ногтями, окрашенными хенной, спешили десятки слуг, белея чалмами, постукивая задками изношенных, когда-то серебром вышитых туфель. Несли воду для омовения, ковры для молитвы и сладострастных игр, горячий плов под червлеными шапками, прогуливали любимую лошадь под белым чапраком, с ожерельем бирюзы на молочной шее. И у низкой двери, ведущей на женскую половину, стоял рослый хазареец и бледнел, если за нею раздавался смех.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
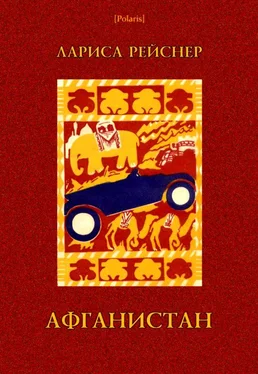





![Елена Майорова - В огне революции [Мария Спиридонова, Лариса Рейснер]](/books/400979/elena-majorova-v-ogne-revolyucii-mariya-spiridonova-thumb.webp)





