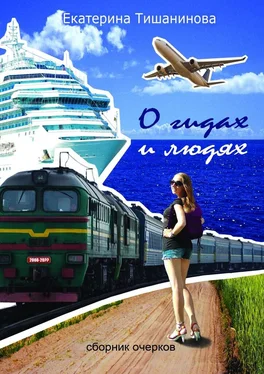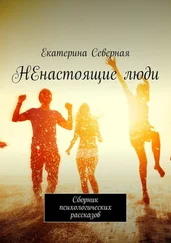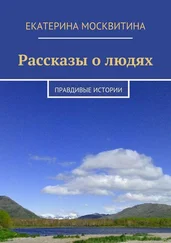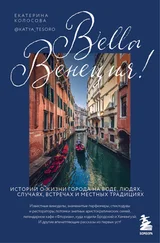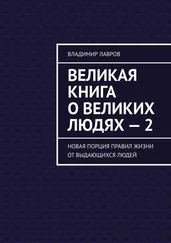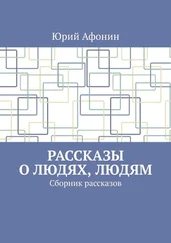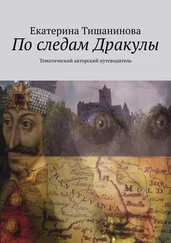– Ужас какой! – искренне возмутилась я. – Сотрясения не было, я надеюсь?
– Не! – беспечно отозвалась Татьяна. – Слава Богу, ссадиной отделалась. Правда, теперь не могу сказать, что моя свадьба была самым счастливым днём в моей жизни. Я была так рада, когда всё это, наконец, закончилось!
– Ещё бы! – поддержала я. – А подружки-то довольны остались?
– Да как тебе сказать? С одной стороны, возмущались долго. Кому-то платье порвали, кого-то вином облили, кому-то букета не досталось. А всё же после этого месяца два вся деревня только о нашей свадьбе и говорила. Сама понимаешь, у нас там глухомань, ничего не случается никогда, а тут такое событие!
– Так, может, все гости специально так подстроили, чтобы свадьба была не такая, как вы хотели, а чтобы было, что вспомнить? – предположила я.
– Может, и так. Да что уж теперь? Поженились, и ладно, – махнула рукой Татьяна. – Зато всё как у людей.
Действительно. Свадьба, платье, море водки, застолье в клубе и пьянка с мордобоем – классическая деревенская свадьба. Разве что жаль невесту, которой прилетело поленом ни за что ни про что – хорошо хоть, жива осталась. Хотя, с другой стороны, быть убитой шальной деревяшкой в день своей свадьбы – конечно, обидно, но ведь так романтично! А так – всё как положено, всё как у людей.

На протяжении всей моей турлидерской деятельности эта группа оставалась одной из самых любимых. Несмотря на свой небольшой состав всего-то в семь человек, была она весьма разношёрстной. Во-первых, присутствовала у нас семья из Австралии: родители и мальчик двадцати с чем-то лет. Родителям было чуть за пятьдесят, и как настоящие австралийцы, они смеялись абсолютно над всем и всеми. Во-вторых, была пожилая пара из Новой Зеландии – этим старичкам было уже под восемьдесят, что, однако, не мешало им топать вместе с нами пешком через полгорода на экскурсиях, каждый день переезжать с места на место, таскать огромные рюкзаки и колесить по бездорожью на велосипедах. Ещё с нами путешествовала девочка из Лондона – ровесница мальчика-австралийца, приятная в общении блондиночка, в которой не было ничегошеньки от стереотипной английской чопорности. Наконец, был весёлый дядечка из Швеции, который говорил на грамматически правильном английском, но с сильным акцентом. Всю эту публику мне предстояло прокатить по русскому Северу, показать им имперские красоты Петербурга, древние церкви Новгорода, протащить по Белому морю на Соловки, продемонстрировать деревянную архитектуру Архангельска, попарить в бане на Вологодчине и на финише доставить в Москву.
Стоит сказать, что туры, которые организовывала моя компания и которые я так старательно сопровождала, отнюдь не были похожи на привычный русскому отдыхающему «олл-инклюзив» где-нибудь в Анталии. Это было настоящее путешествие: мы передвигались на поездах, автобусах и общественном транспорте, исследовали местность самостоятельно, брали мастер-классы по народным промыслам или кулинарии у местных умельцев, пытались в меру своих способностей учить местный язык. Например, на этом туре мои искатели приключений познали всю прелесть российского плацкарта: мы ехали из Кеми в Архангельск, пилили на поезде целый чёртов день, а места у нас были все как одно боковые. Как настоящие русские, мы всю дорогу гоняли чаи, жевали бутерброды с колбасой (непременно копчёной, как же иначе!) играли в «города» и пели песни под гитару. Или вот: для того, чтобы добраться до Соловецкого архипелага, мы пересекли Белое море на таком корвете, который не снился ни одному пирату. Фактически, это была малюсенькая железная калоша, крашенная в оранжевый, однако уже довольно облезлая. Места под крышей хватило на шестерых, а нам с отцом австралийского семейства пришлось все два часа пути сидеть на палубе, болтать ногами и между собой, кутаться во всю одежду, которую мы догадались с собой прихватить и ёжиться от ледяных брызг. Или взять дорогу до Кенозерского национального парка: мы полным составом и со всем барахлом погрузились в убитую «Газель» – эти шарабаны тогда ещё исполняли роль маршрутных такси – и с местным водителем часа три скакали по просёлочным… Нет, не дорогам – направлениям. Водитель, кстати сказать, был местным, и, подозреваю, любителем русской классики, а конкретно Гоголя. Крылатую фразу Николая Васильевича «Да какой же русский не любит быстрой езды?» он, видимо, взял своим девизом, и подвеску своей кареты всю дорогу испытывал на предельных скоростях нещадно. Мне-то что, я человек привычный, а вот ребята мои получили незабываемые впечатления. Зато наша кочевая жизнь была весёлой, насыщенной и полной сюрпризов.
Читать дальше