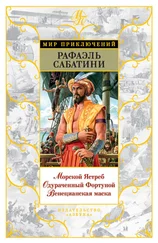К началу мессы в Санти-Джованни-э-Паоло Леонид едва поспел. Храм, казалось, спал, касса закрыта. Будет ли служба? Пока он раздумывал, мимо в призывную темноту, скрывавшую могучий интерьер и готические надгробья, промчалась пожилая синьора с покорно-молчаливым ребенком. Леонид двинулся следом. А женщина уже входила в дальнюю левую капеллу, где горел свет и слышались голоса. Там и будет служба? Когда Леонид проделал полпути, знакомая донна снова пронеслась мимо него: теперь – в правую капеллу в средней части храма; за ней шли два священника. Он машинально повернул туда же. Здесь тоже было светло, и по обеим сторонам сидело несколько женщин. Едва Леонид, встретившись глазами с Мадонной в белой короне, успел опуститься на лавку в ногах какого-то святого, идущего по водам серебристой реки, как появились священники (нет: священник и министрант) и месса началась.
Отрывок из Послания к евреям прочла бойкая молодая девушка, она же приятным голосом пропела псалом; Евангелие читал высокий черноволосый священник. Хорошо было, проехав 2000 верст, в первой же церкви застать тот же богослужебный чин, что и дома.
Что было хорошо? Сходство с посещением любимого кафе, к которому привык в прошлые приезды? Или любимой площади, канала, библиотеки? Хорошо было объединиться с людьми, и не просто перекинуться с ними улыбками или хилыми фразами, но возвысить силу своего голоса, чтобы на их языке вознести благодарение, вместе с ними воззвать о хлебе насущном. Леонид посчитал это удачным началом своего нынешнего пребывания здесь; не залогом успеха, а, скорее, просьбой о помощи, которую услышали. Помощи в чем? У него были установки, планы? Трудно сказать, на что он полагался, не зная ни в одной букве, какими они будут, эти несколько дней паломничества. Может быть, отсюда удастся бросить некий внешний взгляд: как на себя самого, так и на тех, кто тебе дорог?..
Когда Леонид вернулся в гостиницу, колокола у св. Апостолов пробили девять. Больше никуда не пойду, решил он. Замкнусь в комнате; мне есть о чем поразмыслить в этот зимний вечер… Таможенники на пересадочном пункте – в либеральном Амстердаме – спросили его: «Why?» – почему он едет в Венецию в канун своего пятидесятого дня рождения? И даже если бы он сносно владел языком, было неясно, как это объяснить, чтобы они поняли. Ведь и знакомые удивлялись: «Юбилей… вдали от родины?..» А что, если здесь она и находится, родина его души?.. Леонид не знал, как расценить вопрос чиновников: как равнодушную бесцеремонность или глупость? Вот если бы он обрядился в костюм Арлекина или приделал себе ослиные уши и, блаженно мыча, носком висел на руках у друзей, все было бы понято как должно. Своей поездкой он, казалось, обнаружил нечто, не предназначенное для посторонних, признался в какой-то чуть не постыдной слабости. Но избежать признания значило бы отказаться от чего-то слишком важного…
Итак, в Москве полночь. Начинается день, в который каждый имеет право ублажать себя. Но за что? За то, что доставляешь радость другим? Когда поздравляют старшие, видишь в их глазах радостное удивление: надо же, и этот мальчишка тоже старый. Когда молодые – удовлетворение: у нас-то еще все впереди… Поздравляют? Спасибо. Но раздувать дальше: собирать тех, кто считает своим долгом к тебе прийти или вправду хочет – зачем? Довольно электронных весточек. И если стоишь на неважности юбилея, то не акцентируйся на этом и сам, а поблагодари – за жизнь, оказавшуюся длинной и благополучной.
Венеция вошла в него давно, задолго до того, как он побывал в ней, и в повседневных мелочах ему порой просвечивали венецианские мотивы. Но, несмотря на то, что он довольно часто говорил о Венеции: в школе у себя он даже уголок завел – по слову Анри де Ренье: «Venise chez soi», – говорил он о ней, как правило, с людьми, в ней не бывавшими, стараясь приподнять образ Города Вод над уровнем тех впечатлений (гондолы, голуби, маски), из которых состоит для непосвященных понятие «Венеция». Поэтому тема приобрела оттенок вымысла, сна, за который отвечает он один. Он почти допускал, что венецианская страница его жизни исчерпана, но решился приехать сюда еще раз, чтобы поклониться городу и его церквям, если они хоть в какой-то мере помогли ему разорвать кольцо одиночества. Надо ли это объяснять? Сдержанность внушала ему: опасно делиться с кем-то мыслями, выходящими за рамки естества. Но если они действительно таковы, то умолчать было бы не вполне правильно, ибо это было бы молчанием не о том, что имеет лишь частный характер, а, напротив – по самому происхождению своему предназначено для распространения. И тогда… Он повторил стих псалма, слышанный на мессе: «Я не возбранял устам моим… Правды Твоей не скрывал в сердце моем…» Но… Как распространять? И что: известные слова – или иное? Не попытка ли это поделиться блеском того алмаза, которого у тебя нет?..
Читать дальше