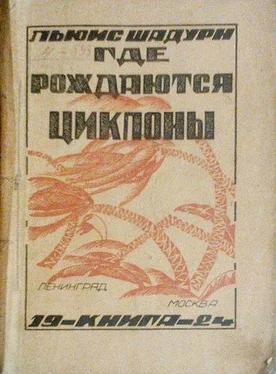Веками живут они так, придерживаясь испанских обычаев, чуждые всякой другой жизни и какой бы то ни было деятельности; пассивные, пустые, суеверные, болтливые, сидя за своей решеткой и занимаясь сплетнями. Они делают вид, что отворачивают голову, когда, вы проходите, или бросают на вас презрительный взгляд. Только куртизанки мило улыбаются.
На каждой двери помещается образ богоматери или какого-нибудь святого, представляющий ужаснейшую хромолитографию. Дверь с маленьким окошечком накрепко закрыта, а перед нею находятся еще сени. Как можно меньше отверстий наружу, как по причине жары, так и вследствие революций.
И церкви! Бесчисленное количество церквей, по большей части без всякого стиля, некрасивых, с безвкусными лепными украшениями, аляповатых, лишенных отпечатка старины.
Но все-таки, сегодня вечером, я смотрю на церковь Мерседес, в конце поднимающейся в гору маленькой улицы, две колокольни которой, похожие на розовые минареты, выделяются на бледно-лиловом хаосе гор. Приближается ночь. Двери в церкви открыты и с улицы виден алтарь с горящими свечами. Целая толпа набожных женщин спускается но ступеням, тихо переговариваясь между собою. Два громадные пучка лилий стоят при дверях. Среди красноватого полумрака алтарь сверкает тысячью огней.
Запах духов, которыми надушены женщины, смешивается с тяжелым благоуханием лилий. Для креольской души эти вечерние службы составляют величайшее удовольствие; не сознавая, она наслаждается последними остатками старого и мрачного испанского мистицизма.
Здесь имеются монастыри разных орденов. Я вспоминаю о женском монастыре св. Иосифа Тарбского, на дороге в Парайсо, где воспитывают молодых креолок, о большом патио, с зелеными растениями и красными колонками. На окружавшей его галлерее все шторы были, опущены. Был канун Рождества и днем стояла страшная жара. В эту ночь молодые девушки должны были участвовать в процессии и нести под пальмами «Virgen Santisima» (пресвятую богородицу). Часовня выходила на патио; царивший в ней полумрак смягчал кричащую позолоту и контуры статуй в стиле часовни Saint-Sulpice. Воспитанницы в голубых с белым платьях, о черными волосами, спускавшимися на смуглые щеки, возвращались в монастырь; они с любопытством разглядывали нас. Из продуваемого свежим ветерком сада видны были голубые склоны гор. Листья пальм покачивались в прозрачном небе. В этот вечер мы возвратились в карете, по дороге из Парайсо, составляющей единственную прогулку, допускаемую светскими правилами. Это довольно прохладная дорога, с которой видна игра теней на склонах гор и город. Вдали, в лиловых сумерках, виднелись пальмы, окутанные вуалью легкого тумана. Я думал об эхом маленьком мире, тщеславном, ленивом и жадном, который волновался у подножья этих диких гор. Мираж из золота и крови охватывал небо, заливая монастыри, церкви, дома и даже отдаленные вершины. В нескольких километрах отсюда начинались все те же джунгли. Потом мы выпили по рюмке ликёра в «Индии», небольшом провинциальном кафе, с богатой позолотой, но невыразимо унылом.
Деревня раскинулась но склонам холма, среди деревьев и лужаек. Издали она кажется красным пятном на фоне зелени. Вблизи ее чистенькие и новые дома оказались ярко красными, розовыми с зеленым и розовыми о голубым. Церковь точно сделана из коралла. Совершенно как раскрашенные игрушки. Нас приглашает к себе падре, и мы завтракаем на веранде его деревенского домика. Падре достал стулья, у него нет мебели, и вся обстановка состоит из стола и двух гамаков. Зато в садике цветут розы и по стене вьется виноград.
Старая служанка, с морщинистым, как старинный пергамент, лицом, похожая немного на колдунью, расхваливает жизнь в деревне: «Деревня, — говорит она, — гораздо поэтичнее города». Молодая служанка-индианка, с стройными ногами и черными глазами, помогает ей и подает нам сдобренные перцем сосиски, соленую треску и варенье, с вкусом ипекакуаны. Согретое солнцем шампанское совсем нас не освежает.
Долго живший в Париже художник забавляет нас разными историями, которые странно слышать под этим широко распростертым знойным небом, и показывает фотографии своих подруг с парижских бульваров. Андалузский гидальго оспаривает у него первенство и перебивает его. Это большой барин; между прочим, он занимается литературой. «Я создал, — говорит он, — только одно произведение, но должен вам сказать, что это лучший из всех появившихся в наше время романов. Он очень своеобразно трактует философию истории». По поводу испано-американской войны он говорит: «Она имела и хорошую сторону. В ней американцы впервые встретились с людьми благородного происхождения». Одной из присутствующих дам нравится его жилет. «Это исторический жилет, сударыня», — скромно замечает он. Он поэт, государственный деятель, первый во всем свете кавалер и, конечно, покоряет все женские сердца. О своих успехах он рассказывает весьма охотно: «Мme X…, которую я обожал… графиня Z…, которая была моей любовницей». Но его тщеславие встречает отпор в тщеславии художника, и разговор кончается кислыми словами, чему не мало способствует плохое пищеварение.
Читать дальше