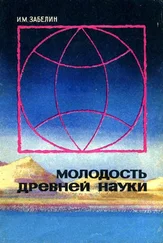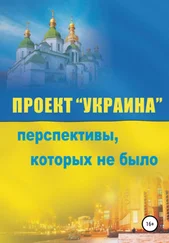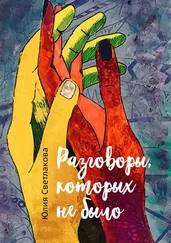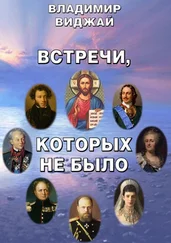Кажется, все ясно: ни у кого не было сомнений в том, что в море пошел Федот Алексеев и инициативные промышленники-своеужинники, присоединившиеся к нему. Случилось это после того, как Федот Алексеев получил «казаков» в лице Семена Дежнева и «решился», отчалить. Как получил — тоже ясно: пришел и попросил с собою служилого. Вызвался ехать Семен Дежнев — его и отпустили с торговым человеком.
А М. И. Белов по поводу этой же цитаты рассуждает таким образом: «Из простого (?!) рассказа колымского приказного человека видно, что Федот Алексеев шел в поход всего с 12 покрученниками, большую часть своих людей он оставил на Колыме; Основную массу участников первого похода Дежнева (?!) составляли своеужинники, промышленники, имевшие свои капиталы и ведшие промыслы самостоятельно, независимо от Федота Алексеева».
Направленность этих рассуждений сомнений вызвать не может. И нежелание считаться со свидетельством Второго Гаврилова, и, наконец, попытка изобразить мелких промышленников совершенно самостоятельными людьми, хотя, методы организации экспедиций того времени достаточно хорошо известны, — все это служит одной цели: изобразить Федота Алексеева рядовым участником плавания, поставить на его место Семена Дежнева, которого Федот Алексеев взял с собой, короче говоря, направлено на то, чтобы искусственно возвысить Дежнева, расчистить ему место.
Как доказывается недоказуемое, легко проследить по книгам М. И. Белова: «Семен Дежнев», 1948, «Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах», 1952 (сборник документов с обширными примечаниями М. И. Белова), и «Семен Дежнев», 1955. Не будем обращать внимания на мелочи, например на то, что в книге 1955 года М. И. Белов на странице 62 утверждает, что спутники Федота Алексеева находились «в разной степени зависимости от своего вожака», а на странице 64, что они были независимы и, следовательно, никакого «вожака» не существовало; или на то, что, по мнению М. И. Белова, изложенному на странице 62, Федот Алексеев «имел намерение пройти на реку Анадырь под охраной (!) казаков», а на странице 64 тот же Федот Алексеев пускается в плавание, взяв с собой одного Дежнева, который при всем желании не смог бы охранять шесть десятков добрых молодцев с пищалями и саблями. Все это, повторяю, мелочи.
Вот что значительно серьезнее. В конце 1952 года М. И. Белов писал: «Следует несколько подробнее остановиться на подготовке его (Дежнева по контексту. — И.3.) морского похода на Анадырь, тем более что в литературе при освещении этого вопроса допущен ряд фактических неточностей — нередко организацию и саму идею похода исследователей приписывают торговому человеку Федоту Алексееву, а С. Дежнева изображают «прикомандированным» к отряду Алексеева».
Упрек этот, в высшей степени серьезный, относится, надо полагать, в первую голову к колымскому приказчику Второму Гаврилову — очевидцу событий! — в «простом» рассказе которого события освещаются именно так. Что же, в конце концов полемика допустима и с первоисточником. А что касается приемов доказательства… Возможен, например, такой прием: утверждай, не доказывая. В статье «Дежнев» второго издания БСЭ можно прочитать нижеследующее: «Под начальством Федота Алексеева … известного под фамилией Попов, была организована торгово-промысловая экспедиция. Д(ежнев) присоединился к экспедиции в качестве представителя государственной власти (сборщика ясака). Плавание экспедиции летом 1647 не увенчалось успехом… 20 июня 1648 экспедиция вышла в повторное плавание…» А четырнадцатью строчками ниже читаем: «Экспедиция Д(ежнева) сделала выдающееся географич. открытие ». Просто, убедительно и придраться не к чему!
Вернемся теперь к «критике» М. И. Беловым колымского приказчика Второго Гаврилова, рассказавшего о событиях без всяких ухищрений. Продолжим прерванную цитату из книги М. И. Белова: «Правильный ответ на этот вопрос может быть дан на основе изучения таможенных документов участников похода Дежнева. В делах якутской таможни нам удалось обнаружить «выписи» и проезжие грамоты дежневцев…» Что ж, об этих грамотах и «выписях» Второй Гаврилов мог ничего не знать…
В первой части цитаты речь шла о том, что некие злоумышленники приписывают Федоту Алексееву организацию экспедиции и саму идею похода.
«Разрушается» это мнение своеобразно. М. И. Белов ссылается на два документа — таможенные грамоты. Одна из них была выдана Федоту Алексееву еще летом 1641 года на провоз товаров и хлеба из Енисейского острога к Ленскому волоку. А вторая выдана в июне 1646 года приказчикам Афанасию Андрееву и Бессону Астафьеву, которые приняли участие во втором плавании Федота Алексеева. В этих грамотах содержится перечень товаров, которые везли с собой приказчики, и все. Почему из этого перечня следует, что не Федоту Алексееву принадлежит идея похода и организация экспедиции, я лично судить не берусь, а М. И. Белов никак не поясняет своей мысли. Очевидно, ссылкой на эти грамоты он хотел сказать, что помимо капитала Федота Алексеева большой капитал вложили в экспедицию и другие приказчики. Это верно. Но Афанасий Андреев и Бессон Астафьев приняли участие во втором походе, а не в первом, так что они не могли оказать влияния на организацию этой экспедиции вообще и на возникновение идеи похода у Федота Алексеева в особенности.
Читать дальше
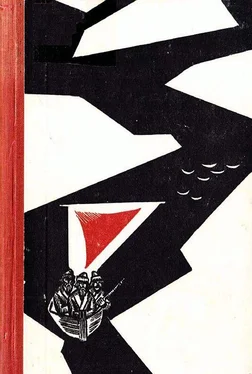

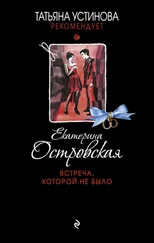
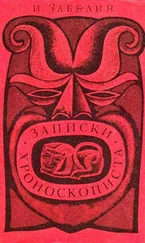
![Игорь Забелин - Загадки Хаирхана [Научно-фантастические повести]](/books/408249/igor-zabelin-zagadki-hairhana-nauchno-thumb.webp)