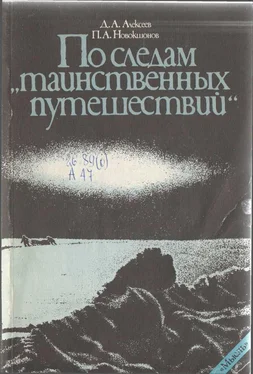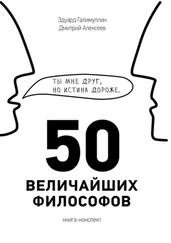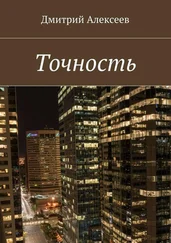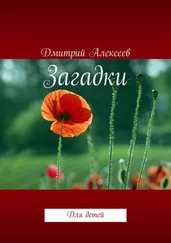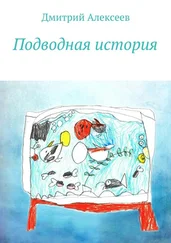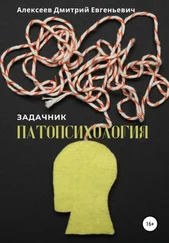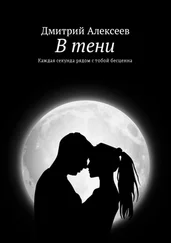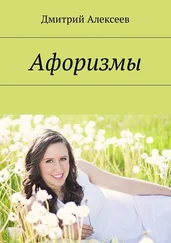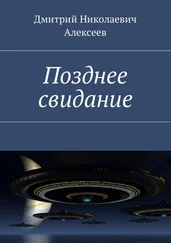Дирижабль круто повернул в сторону океана и стал маневрировать вдоль побережья, увертываясь от непогоды. Но время шло, погода не менялась, и некоторые пассажиры начали уже выражать недовольство длительной задержкой. Ко всеобщей радости, Прус вскоре объявил, что ветровая обстановка над Лейкхерстом несколько улучшилась и многочасовому томительному ожиданию наступил конец.
Когда в 18 часов 8 минут корабль на высоте 200 метров приблизился к летному полю, Прусу посоветовали немедленно провести причаливание. По-прежнему шел дождь. Небо на западе прояснилось. Ветер у земли был восточный, сильный и порывистый.
Мы не случайно столь подробно повествуем о малейших изменениях погоды. Все это, как выяснится впоследствии, сыграет решающую роль в разыгравшейся трагедии.
При первом пролете над Лейкхерстом Прус и Леман убедились, что швартоваться придется к причальной мачте, расположенной в западной части летного поля. Поэтому корабль сделал большую дугу приблизительно в 9 километрах от станции и с этого направления стал медленно подплывать к мачте.
Между тем капризный ветер стал задувать с юго-востока. Прусу пришлось сменить курс и подойти ко второй мачте, установленной приблизительно в километре восточнее первой.
Пока выполнялись эти малоприятные для каждого воздухоплавателя маневры, неожиданно обнаружилось, что корма дирижабля перевешивает, и Прусу не оставалось ничего другого, как приказать выпустить часть газа из передних десяти отсеков и заодно сбросить свыше тонны водяного балласта, чтобы попытаться выровнять «Гинденбург».
Неумолимо, шаг за шагом, воздушный гигант приближался к своей огненной гибели.
Примерно за 200 метров до причальной мачты пропеллеры всех четырех моторов завращались в противоположную сторону, и дирижабль стал оседать на землю. Вниз полетели причальные канаты. Их быстро привязали к двум небольшим тележкам, и те покатились по рельсам, подталкивая упиравшийся на ветру воздушный гигант к мачте. Корабль завис на пятидесятиметровой высоте, и в иллюминаторах уже можно было различать веселые лица пассажиров.
Четыре минуты спустя после сброса канатов язычок пламени выбросился на корме дирижабля. Огонь стремительно побежал вперед по корпусу. Через пятнадцать секунд начались взрывы.
Пламя мгновенно обнажило весь металлический скелет корабля, который стал как-то съеживаться и стремительно опадать. Корма первой ударилась о землю. Нос дирижабля сначала взлетел на стометровую высоту, а затем медленно, как бы нехотя, распластался на земле.
Водородное пламя скоротечно, и, может быть, поэтому шестьдесят два человека с «Гинденбурга» остались в живых, отделавшись ожогами. Охваченный огнем четырнадцатилетний стюард был облит водой из взорвавшегося бака, спасся просто чудом. Двадцать два члена экипажа исчезли в огненном смерче. Капитан Леман — первый командир «Гинденбурга» — умер в госпитале несколько часов спустя. Понадобилось всего тридцать секунд, чтобы один из последних воздушных могикан перестал существовать...
Совершим небольшой экскурс в историю дирижаблестроения. Во время первой мировой войны десятки «Цеппелинов» поглотило пламя. Но тогда по крайней мере специалистам не приходилось ломать голову над причинами огненных катастроф. Они лежали, что называется, на ладони: зажигательные ракеты, выпущенные юркими истребителями, зенитные снаряды противника. Трагедия «Гинденбурга» не укладывалась в рамки привычных представлений и версий.
Эксперты самым тщательным образом обследовали каждый из закопченных обломков дирижабля. Ни единого намека на возможную причину губительного пожара! Не прояснили дело многочисленные снимки и сотни метров отснятой кинопленки. Операторов собралось в Лейкхерсте немало, но приготовления к причаливанию корабля велись преимущественно перед его носовой частью, и все аппараты были направлены именно туда. И именно то место, где вспыхнул огонь, зафиксировано не было.
И все же, несмотря на минимум фактов, комиссии удалось установить причинную связь тех событий, которые предусмотреть не смогли инженеры и конструкторы. В отчете так и было записано: «...существует большая вероятность возникновения огня в результате непреднамеренного зажигания, вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств». Эксперты назвали главные: образование огнеопасной смеси и ее последующее воспламенение.
На открытом воздухе водород сгорает, что называется, «мирно», без взрывов, поскольку опасных концентраций гремучего газа (воздушно-водородной смеси) не возникает. Так кончали свой короткий век привязные надувные аэростаты наблюдения в первую мировую войну, пораженные зажигательными снарядами. Иное дело, если водород вдруг вытечет из газовых баллонов во внутреннее пространство корпуса дирижабля...
Читать дальше