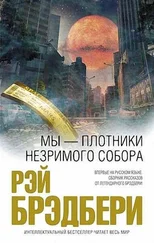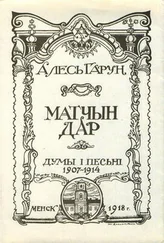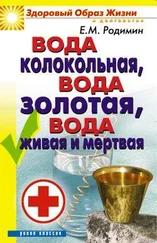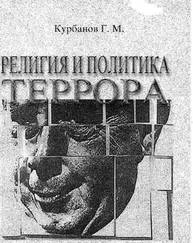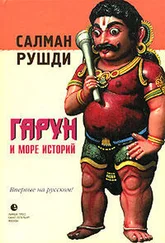И Суэцкий залив, и Акабский, врезанный в сушу с другой стороны Синайского полуострова, и Красное море, куда мы держали путь, – все эти длинные морские желоба образовались в результате грандиозного катаклизма, изменившего лик Земли.
В эпоху, которую геологи именуют третичным периодом, каких-то несколько миллионов лет назад (а возраст затвердевшей Земли исчисляется примерно в три с половиной – четыре миллиарда лет), земная кора раскололась от гор Таурус в Турции до озера Ньяса в Африке, от 35–36° северной широты до 20° южной. На протяжении около шести тысяч километров вдоль 35-го меридиана тянется зигзагом колоссальный разлом. Этому гигантскому сбросу соответствует подъем такого же порядка, вознесший на тысячи метров вверх морское дно, лежавшее прежде на километровых глубинах. Так возникла гирлянда гор, тянущаяся от Альп до Гималаев в одном полушарии, и Кордильер с Андами в обеих Америках.
Что же послужило причиной столь грандиозного смятения на земной поверхности?
С тех пор как двести лет назад Гораций-Бенедикт де Соссюр заметил, что вершины высочайших гор несут морские отложения, было сделано немало попыток объяснить этот феномен. Вначале считалось, что своей складчатостью земная кора обязана охлаждению поверхностного слоя; гипотеза, однако, натолкнулась на серьезное возражение: если поверхностный слой Земли охлаждается, выпуская калории в межзвездное пространство, он, безусловно, должен был остыть больше внутренней части. Объем же последней не меняется, поэтому поверхность не могла сморщиться наподобие засохшего яблока. Кстати, одна из недавних теорий гласит, что Земля отнюдь не охлаждается, а, напротив, нагревается под действием радиоактивности скальных пород, и идея общего или частичного нагрева позволяет так же строить тектонические теории.
Другая гипотеза имела колоссальный успех и вызвала яростную полемику: речь идет о теории дрейфа континентов. Сформулированная еще в 1859 году Шнайдером-Пеллегрини, она получила известность лишь после того, как в 1915 году ее развил геофизик Альфред Вегенер. Согласно этой теории, разработанной в дальнейшем Эмилем Арганом (1922 г.), на планете существовал первозданный континент Пангея, плававший на подстилающем слое расплавленных пород; потом он разбился, и его отдельные части пустились в плавание – обе Америки к западу, Индостан и Австралия к востоку и, наконец, Антарктида к югу.
Дрейфуя, эти континенты своей массой спрессовали толстые слои осадочных отложений, скопившихся в результате эрозии в морских желобах на окраинах континентов. Сжатие достигло со временем такой силы, что первоначально горизонтальные слои сморщились, наложились друг на друга и в конце концов колоссальным давлением были подняты с морского дна, иногда – как в гималайской цепи – до десяти километров ввысь. Естественно, что параллельно этому процессу шел и обратный: в других местах в результате дрейфа континентов земная кора растягивалась настолько, что давала трещины. В результате образовались горные цепи и гигантские провалы, подчас в несколько тысяч метров глубиной.
Такова вкратце схема, предложенная сторонниками гипотезы мобилизма, то есть движения континентов. Как раз по одной из таких закрытых морем трещин шел сейчас «Калипсо».
Возможно, эти деформации как-то связаны с конвекционными движениями в толще расплавленных пород мантии, на которой покоится (или плавает) кристаллическая кора Земли. Часть ученых полагает, что внутреннее «подкорковое» вещество относительно твердое, однако большинство сходится на том, что оно вязкое и под воздействием колоссального давления больших глубин способно течь. Перепад температур, безусловно существующий на разных ее уровнях или даже в различных местах одного уровня, порождают течения, обладающие фантастической мощью; они без труда поднимают, втягивают, мнут или ломают корку поверхности. Наш земной покров очень тонок: от силы 50–60 километров, меньше одной сотой радиуса Земли. На глобусе радиусом в метр толщина земной коры окажется менее сантиметра, а Эверест там будет выглядеть жалкой крохой… Зато на том же глобусе вязкая мантия займет пространство в сорок пять сантиметров вокруг таинственного ядра нашей планеты.
Нас, однако, интересует в первую очередь именно то, что происходит в этой смехотворно тонкой коре, на которой мы обитаем. Поэтому в отличие от товарищей по «Калипсо», радостно ждущих начала работ в Красном море, где им предстоит изучать флору и фауну, я с не меньшим восторгом ожидаю встречи с большими разломами – свидетелями грандиозных происшествий в земной коре. Местами сквозь трещины там изливалась вулканическая лава, и я надеюсь, что за два месяца мне удастся увидеть какие-нибудь новые следы гигантского феномена.
Читать дальше