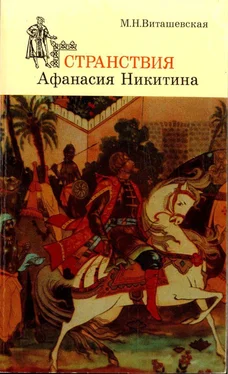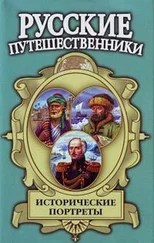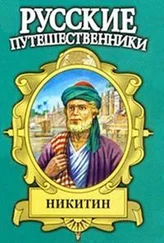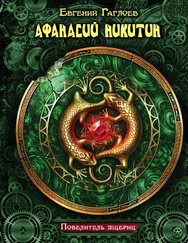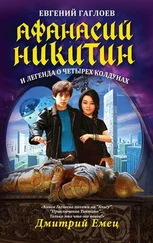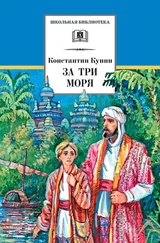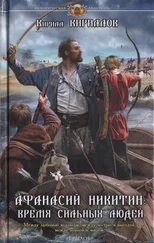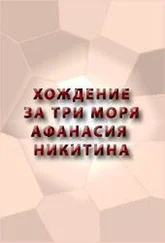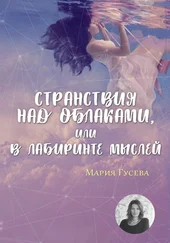По внешнему виду города того времени на первый взгляд походили один на другой. Центром являлся «город» — кремль, то есть крепость, стены которой редко складывались из камня: чаще они были деревянными или даже земляными.
У Твери, несмотря на все ее богатства, тоже не было каменных стен. В Тверской летописи под 1369 годом записано, что «град Тверь срубили дровян и глиною помазали». В 1395 году вместо ветхой стены сделали новую, но опять не из камня, а из брусьев. Тверские кремлевские стены часто горели, тогда «паки (вновь) закладывали городень».
Тверской кремль имел вид неправильного треугольника. С одной стороны он выходил на Волгу, с другой — на речку Тьмаку, с третьей был отделен от посада глубоким сухим рвом.
В кремле стояли соборная церковь Спаса Золотоверхого, княжеский дворец, амбары с княжеским добром, тюрьма, архиерейское подворье, дома бояр и приближенных князя, служилых людей, усадьбы соседних помещиков.
За стенами кремля располагался посад, где жили горожане, или, по-тогдашнему, посадские люди. Здесь, на большой площади, стоял гостиный двор, или ряды, — лавки местных купцов. В торговые дни на эту площадь из округа приезжали возы со всяким товаром.
Лавки располагались рядами: мясной ряд, ножовый, охотный, суровский и т. д. В суровском ряду торговали тканями, прежде всего «суровскими», или «сурожским товаром», то есть тонкими (шелковыми и другими) тканями. В гостиный двор привозили свои товары и приезжие купцы. Для них устроено было особое подворье; там купец за плату получал ночлег и стол.
На площади находилась таможня, где облагали сбором все привезенные в город товары, там же была мытная изба, куда вносились пошлины на торговые сделки, и наконец, кабак.
Площадь посада — самое боевое, оживленное место в городе. Здесь постоянно толпился народ и по делу, и просто так — на других поглядеть, себя показать.
Неумолчный шум и гам стоит на площади. Приезжают бирючи — глашатаи князя. Они выкрикивают последние княжеские распоряжения. Где-нибудь в сторонке, чтобы не затоптали, примостились нищие и тянут «Лазаря» или стих про «Голубиную книгу». С шутками и прибаутками расхваливают свой товар голосистые торговцы в лавках, а многочисленные «походячие» торговцы, у которых весь товар при себе, вопят что есть мочи, зазывая покупателей. Наиболее предприимчивые хватают прохожих за полы кафтанов и чуть не силком втаскивают в лавки. За свой товар купец запрашивает втридорога; зная это, покупатель дает вчетверо меньше. Начинается шумный спор, и купец, и посетитель кричат «на голос», божатся, крестятся на иконы, много раз хлопают по рукам, ругаются, а то и подерутся.
Кому нужно написать челобитную, подать жалобу в суд, тот тоже идет на площадь. Там во всякое время можно найти подьячего, готового написать что угодно и на кого угодно. Недалеко от подьячих расположились безместные попы, служащие по домам за небольшую мзду молебны, панихиды и всенощные.
А то вдруг вынесут на площадь покойника, которого некому и не на что похоронить. Сердобольные прохожие, зная в чем дело, кладут на край гроба деньгу-две, кто сколько может.
Не смущаясь покойником, тут же, в толпе, дают свои представления и выкрикивают нараспев веселые погудки скоморохи, а ученый медведь показывает, как ребята горох воруют, как старуха пляшет. Посадская площадь шумит так, что с непривычки можно подумать, будто горит город, татары идут или случилось еще что-нибудь из ряда вон выходящее.
От площади во все стороны расходились улицы. Свое название они обычно получали от стоящих на них церквей или от промыслов жителей: Никольские, Вознесенские, Успенские или Купеческие, Ямские, Кузнечные, Калачные улицы и переулки.
На посаде жили ремесленники и торговые люди. Ремесленники разделялись на мастеров, подмастерьев и учеников. Ученик обычно учился пять лет, после чего переходил в подмастерья. Звание мастера по некоторым специальностям, например по ювелирному делу, было сопряжено со сдачей испытаний. Добротность работы проверяли старосты серебряного ряда.
Улицы были довольно широкие и прямые. Зимой их заносило сугробами снега, а осенью и весной стояла непролазная грязь. Только там, где горожане были побогаче и уличный староста порачительней, улицы мостились бревнами.
По дошедшим до нас сведениям, в Твери было только одно каменное здание — собор, а дома и все остальные церкви были деревянные. Не удивительно, что горожане очень боялись пожаров. Только, бывало, наступит весна и установится теплая погода, по городу, по посаду, по площади ходят бирючи и кричат: «Заказано накрепко, чтоб изб и мылен (бань) никто не топил, вечером поздно с огнем не ходил и не сидел, а для хлебного печенья и где есть варить — поделайте печи в огородах, подальше от хором; от ветру печи огородите и дубьями ущитите гораздо».
Читать дальше