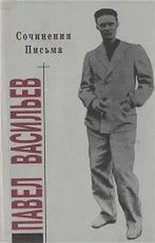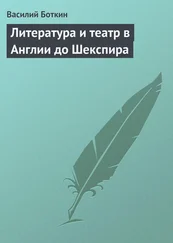Сегодня от души хохотал я в театре dei giardini publici [104]. Представление дают днем; в открытом деревянном амфитеатре может поместиться до 2000 зрителей. Это театр для простого народа. Играли комедию Гольдони. Беспрестанные ссоры и мировые любовников, судья, разбирающий их жалобы, — из этого состояли все сцены. Зрители смеялись до упаду. Национальность была во всем разгуле. Италиянские актеры совсем иначе держат себя на сцене. Я говорю в отношении национальных пиес; в италиянце больше естественности, он развязен и жив на сцене, с грубостию; в нем не нежность, а страсть, поминутно вспыхивающая в различных чувствах. Комизм италиянского фарса вообще состоит не в экивоках и простонародных фарсах. Он любит личности и делается доктором, вечным предметом насмешек, или, в роли impresario, выводит наружу все интриги и все смешное оперной труппы.
28 августа.
Сейчас слушал обедню в Миланском соборе. Звуки органа плавно носились по пространным сводам. С главного входа вид на большой алтарь удивителен. В дыму кадил тускло мерцают свечи алтаря; священники в белых ризах окружают престол, около них по сторонам два ряда певчих и церковных служителей. Ниш алтаря освещен только одним огромным окном; стекла прекрасно сохранили старинную живопись; лучи солнца слабо проницали сквозь них. Толпы молящихся были почти незаметны между громадными колоннами. Я взял стул, отошел на самый конец церкви и сел. Передо мною длинными рядами подымались колонны, усыпанные статуями и барельефами; пение едва слышалось; орган доносился до меня слабо, аккордов я не мог разбирать: они то умирали, то звучали сильнее, переливались — это было эхо органа. Громадные своды вторили его.
Обедня кончилась, народ вышел из церкви, а я еще сидел — душа была в безотчетном упоении. Чтобы видеть высшую сторону католичества, надобно быть в Италии, где народ верит от всей души и так поэтически, где в храмах его искусства расточили дары свои. Тут примиряешься с ним за плодотворное влияние его на мир, тут предстоит он во всем очаровании минувшего царства своего. Реформа {369} не идет к готическим храмам Германии.
Здешний театр la Scala — огромнейший из всех театров Европы. Несмотря на величину его (он гораздо больше нашего Петровского) {370} , эхо не разносит звуков, пространство не поглощает их, и потому — как не подивиться искусству архитектора Pietro Marini, строившего его в 1778 году. Театр этот представляет род публичного гулянья. Во время представления по обширному партеру его зрители преспокойно расхаживают, громко разговаривая. В ложах его, которые без преувеличения можно назвать комнатами, принимают визиты, меняются новостями. Меня удивила эта невнимательность, походившая на пренебрежение. Я вспомнил тишину парижских театров, бурное негодование зрителей на малейший шум, постоянное внимание от начала до конца пьесы [105]. Труппа была посредственная.
Я стою в albergo del Falcone [106]. Против окна моего, на другой стороне улицы, по которой едва проедут две кареты рядом, живет молодая девушка, которая занимается мотаньем шелка. Она очень недурна — черные волосы, черные глаза, бледное лицо. Несколько дней я кланяюсь ей, она отвечает; давеча решился сказать ей «bon giorno», она проговорила «bon giorno, signore» [107], засмеялась и убежала. Иногда она поет, голос у нее чистый и высокий. Ее быстрые движения, игривые мотивы ее пения и это бледное страстное лицо — так все и говорит об Италии. Мне нравится обычай здешних женщин покрывать голову черным кружевным покрывалом. Шляпок они не носят. Это придает еще более выразительности прекрасным лицам их.
Послезавтра выезжаю из Милана. Смотря на храм его, я ощущаю всегда такое внутреннее удовольствие, так всегда весело мне смотреть на него! Я расстаюсь с ним как с прекрасной мечтой, которая дышала нежностию, искусством, задумчивостию. Сегодня хотел проститься с ним, хотел в последний раз послушать в нем обедню, потому что эхо органа разносится по сводам удивительно. К несчастию, пришел слишком рано. Священник начал проповедь. Я ждал, авось скоро кончит, и от скуки рассматривал обширную кафедру, вылитую из бронзы, с превосходно изваянными барельефами и поддерживаемую четырьмя колоссальными бронзовыми изваяниями святых. Некогда с нее неслось слово Карла Боромея {371} , человека замечательного, страстного, энергического ревнителя католичества, которого неусыпным стараниям одолжен храм этот своим настоящим великолепием. Несколько лет назад Карл Боромей причислен к лику святых. Богатая фамилия {372} Боромея, по стараниям которой сделана была эта канонизация, думала было сделать то же и с братом его, Фредериком, не менее замечательным человеком. Таким образом я продолжал смотреть и думать, а проповедник говорить, — наконец я не выдержал и ушел.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу