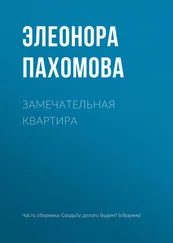Когда последний день съемок завершился заранее прописанным в сценарии триумфом победителей, а Вадим Сигизмундович даже вошел в их число, он поймал себя на том, что испытывает неявную грусть. Она, как мелкая заноза в ладони, не ныла, но стремилась обнаружить себя. Что‑то похожее он испытал последний раз десятки лет назад в летнем лагере, когда пришло время прощаться с пионервожатыми. Они тогда махали маленькому Успенскому своими чудесными, позолоченными солнцем руками, которыми, казалось, могли сделать всё – разобрать палатку, разжечь костер, вскрыть любую жестянку обычным ножом, ударить по струнам. Всё было им по плечу, делалось весело, бесстрашно, а потому их близость отдавалась чувством защищенности и сопричастности. Тогда они улыбались ему своими чудесными белозубыми ртами, а он понимал, что ему предстоит дорога в городские стены в автобусе с пыльным стеклом. К ним же, вожатым, вот‑вот приедет вторая смена – дети, которым достанутся эти улыбки, волшебные руки и сопричастность. И сейчас, когда то детское чувство и нынешнее вдруг породнились, грусть его стала отчаянной, как сирота на паперти. Конечно, телевизионщики не во всем походили на тех идеализированных детством персонажей, но все же были у них схожие черты. А главное, они так же кружили Успенского в своем шебутном хороводе, веселом и многолюдном, иногда даже выставляя в круг.
После того, как погасли софиты и «центровой» последний раз провозгласил: «Всем спасибо! Снято!», Успенский осмотрелся по сторонам прощальным взглядом, вздохнул под влиянием обострившейся грусти. «Центровой» подошел к нему сам, протянул прохладную ладонь.
– Ну что ж, Вадим Сигизмундович, давайте прощаться. Вы отлично смотрелись в кадре, спасибо за работу!
– А… – хотел было что‑то сказать Успенский.
– А Аида вам сейчас отдадут, – подхватил режиссер. – Зоя, тащи птицу!
– Зачем он мне теперь? – опешил «потомственный колдун».
– Как это зачем? Как же он без вас? Это теперь ваш питомец. Для нас он материал уже отработанный, в кадр больше не возьмем. Да и привык он к вам, привязался.
Успенский с сомнением покосился на Аида и даже потянулся к нему, чтобы проверить эту теорию, но ворон возмущенно каркнул и цапнул его за палец. Отчего‑то Вадиму Сигизмундовичу все время казалось, что ворон смотрит на него осуждающе, презрительно. Похоже, что интуиция не обманывала его, но отделаться от пернатого трофея ему не удалось. Последним решающим аргументом в судьбе птицы стало заявление «центрового»: «Вы, Вадим Сигизмундович, не забывайте, что вам по контракту еще три года обязательной работы в магическом салоне предстоят. А ворон по сценарию ваш неотъемлемый колдовской атрибут. Ну и как вы без него морочить людям голову собираетесь?»
Так Успенский притащил Аида сначала домой, а потом переселил в свой кабинет в магическом салоне. Кабинет был небольшим, уютным с виду, но на поверку мало пригодным для комфортного обитания. Тяжелые пыльные шторы скрадывали свет, низкие столик и пуфы скрючивали Успенского в три погибели, свечи коптили. Но главным неудобством этой комнаты было удушливое одиночество, вновь появившееся в его жизни. Это при том, что ему редко доводилось быть здесь наедине с собой, – поток прихожан на его магическими сеансы был довольно плотным, вполне хватало на полный рабочий день. Но эти несчастные, наивные люди лишь обостряли в Вадиме Сигизмундовиче чувство неприкаянности. Он будто ощущал непроницаемую стену между собой и ними, ведь они смотрели на него с надеждой, а ему приходилось врать им в глаза. Так много раз ему хотелось прошептать или крикнуть: «Идите отсюда, бегом, немедленно! В полицию/к хирургу/психиатру/святому отцу…» Но он не кричал: боялся, что о такой выходке прознает администратор салона, а еще хуже – «центровой», и тогда не сносить ему собственной головы. И вместо этого он говорил: «муж ваш вернется», «сын ваш жив», «ваша раковая опухоль рассосется через год и три месяца». Говорил и чувствовал, как стена матереет и высится.
А потом появилась Света. Она напомнила ему телевизионщиков своим напором, деятельностью, поначалу пугающими и не до конца понятными инициативами, вечной суетой. И он впустил ее в свою жизнь под влиянием ностальгии. Очень скоро Света сокрушила все барьеры между ними и прижала Успенского к груди. Давно не знавший женской ласки, он по первости растаял и даже распознал в этом жесте что‑то материнское. Но потом нечаянно осознал, что душные Светины объятья не дарят ему умиротворения. Наоборот, утыкаемый носом в ее пышную и зыбучую, как опара, жадную грудь, он испытывает безотчетную тихую панику. Ему мерещилось, что эта женщина – трясина, способная поглотить его целиком, вобрать в себя и разложить на микроэлементы, питающие ее. Но вот парадокс – со Светой ему было лучше, чем без нее. Ведь она, похоже, знала, что делать с его жизнью, а он нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу