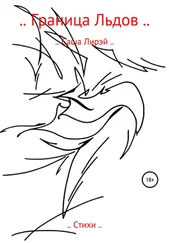Костяные шары после очередного удара Флаэрти еще не успели остановиться, а он, держа кий как рапиру, делает ложный выпад в сторону Мадзини.
– Ну, Вайпрехт, давай, твоя очередь!
Флаэрти играет быстро и сосредоточенно. Меняя позицию, он не идет вокруг стола, а бежит, чтобы мгновение спустя вновь застыть в крайнем напряжении. С такой странной смесью спешки и самоотверженной увлеченности Флаэрти, похоже, делает буквально все. Много лет назад в Ню-Олесунне, самом северном поселке Шпицбергена, проиграв какое-то пари, он тою же ночью принялся конструировать подвесное сиденье и через несколько дней целых тридцать часов провисел в нем на причальной мачте, к которой еще Амундсен и Нобиле швартовали свои дирижабли. После этих тридцати часов ему ампутировали четыре отмороженных пальца на ногах и мизинец на левой руке, и губернатор Ивар Турсен призвал его впредь проявлять больше уважения к историческим памятникам Шпицбергена. По крайней мере, так рассказывал вчера вечером Хьетиль Фюранн.
Впрочем, и Малколм Флаэрти отнюдь не выделяется в маленьком лонгьирском обществе, объединяющем людей беспокойной, переменчивой судьбы. Аккуратные, прямо-таки обывательски чистенькие деревянные домики шахтерского поселка мирно тулятся к холодному берегу Адвент-фьорда, однако ж среди жизненных историй, каких Мадзини в разных вариантах наслушался за первые дни на Шпицбергене, не было ни единой, где бы не обнаруживалась хоть одна чудинка. От других шахтеров Флаэрти отличался только тем, что прожил здесь двенадцать с лишним лет. Большинство приезжали сюда на год-другой, ради высоких заработков, не облагаемых налогом; если они выдерживали тяготы арктического уединения и шахтерский труд, который в столовых горах Лонгьира был куда суровее, чем в других местах, то имели потом шанс вернуться к прежней жизни, сделав ее, пожалуй, чуть более благоустроенной. Ничего сверх этой личной выгоды работа в шахтных стволах, зачастую тесных, как дымовые трубы, в общем-то не сулила – стоимость добытого угля не шла ни в какое сравнение с огромными затратами; широко разветвленная система штолен, казалось, служила не столько законам рынка, сколько убедительной демонстрации норвежского присутствия в этом отдаленном северном уголке королевства. Но что значили здесь законы рынка? Какой закон не утратит силу в этой каменной глухомани или не станет хотя бы шатким? Так или иначе, шахтеры искали в здешнем малолюдье лучшее будущее, а государство – авторитет. О красоте ледникового ландшафта, вообще о природе или волшебстве одиночества никто и не заикался. Да и зачем? Кто за десять тысяч крон в месяц и хреновую жизнь изо дня в день ползает на брюхе сквозь горы, говаривал Флаэрти, когда речь заходила о шахтах, тот либо достаточно знает о mother earth, о матушке-земле, либо ничего о ней более знать не желает.
Флаэрти утверждал, что приехал сюда навсегда. Этот сорокашестилетний мужчина, сын английского колониального офицера, вырос в Кении, горному делу учился в Польше, работал на шахтах Канады и Южной Африки, потом за огнестрельное ранение, которое нанес в Кардиффе отставнику отцу, был приговорен к тюремному заключению, а выйдя на свободу, не один год прожил на Шетландских островах – несчастный муж столь же несчастной жены, хозяйки фирмы, торгующей удобрениями. В конце концов двенадцать лет назад в Леруике он сел в гребную шлюпку, приспособленную для плавания в открытом море, и налег на весла, наедине со своей злостью. Три месяца потребовалось ему, чтобы пройти по Атлантике полторы тысячи морских миль – от Шетландских островов до норвежского Нордкапа. Совершив это величайшее в своей жизни усилие, он в щепки разбил в Хаммерфесте свою шлюпку, а потом на углевозе перебрался на Шпицберген. С той поры и работал здесь техником-проходчиком, жил среди шахтеров, последние пять лет – дверь в дверь с Хьетилем Фюранном, который тоже давным-давно не делал поползновений покинуть Арктику. Флаэрти постоянно носил белые шелковые перчатки, снимал он их, только садясь за покрытую золотым лаком фисгармонию – окруженная пышными растениями, она стояла в углу его комнаты; изъеденные экземой руки Флаэрти неторопливо ложились тогда на клавиши, он пел валлийские песни, а Хьетиль Фюранн порой, в меру своих возможностей, подыгрывал ему на тенор-саксофоне.
– Сдаюсь. – После неудачного пике Мадзини прерывает игру и сердитым движением руки разрушает формацию шаров.
Когда Хьетиль Фюранн, перемазанный грязью, входит в комнату (собак он нынче загнал на псарню с огромным трудом), Флаэрти опять сидит перед телевизором, на экране которого уже нет картинки, только чуть шуршащее белое мерцание, Мадзини склоняется над газетой, оба молчат. Фюранн вваливается шумно, будто не нашел времени сменить тон, каким только что кричал на собак. Фюранн – первый, следом за ним приходит зубной врач Хуль, потом Израэл Бойл, канадец-шахтер, одержимый походами по ледникам, кладовщик Эйнар Гуттурмсгорд и другие, для Мадзини пока что безымянные. Полдень. Все здороваются, задают обычные пустяковые вопросы, и Йозефу Мадзини тоже, слышат в ответ столь же обычные реплики: да ничего… само собой… грех жаловаться… старая калоша нынче выходит в море… ну что ж… – и идут обедать.
Читать дальше
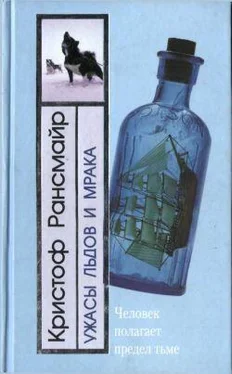



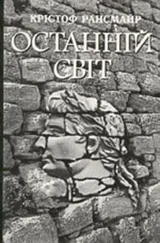


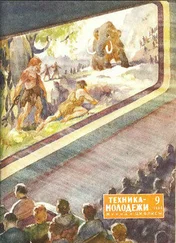

![Адам Кристофер - Скрытый ужас [litres]](/books/416311/adam-kristofer-skrytyj-uzhas-litres-thumb.webp)