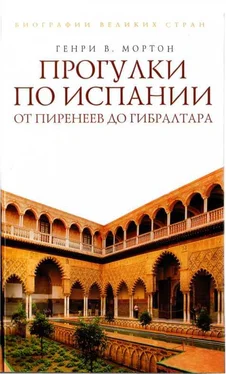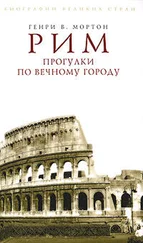Я вернулся к дворцовым воротам, где увидел, что уже прибыли автобусы из Мадрида. Аранхуэс проснулся. Моя маленькая собеседница-шалунья с коробками земляники улыбалась дюжине камер, а рядом стояли официанты, задумчиво взирая на дневной урожай едоков. Я вошел во дворец в хвосте партии. Мы толпой поднялись по парадной лестнице, словно брали ее штурмом, и отправились бродить по комнатам, завешенным гобеленами, люстрами и засиженным золотыми купидончиками. Мы глазели на потолки, которыми, наверное, нельзя искренне восхититься, не попробовав походной койки; нам продемонстрировали вычурные часы того типа, какому не позавидует ни один коллекционер, — отнюдь не Томпион или Грэм в полной сборке. Был один восхитительный миг, когда гид завел музыкальные часы и запустил их; мы услышали, как негромкие колдовские перезвоны заплясали под расписными потолками — словно невидимая пастушка Ватто проскользнула во дворец и выписывает пируэты вокруг, прячась за атласными занавесями.
Гид описал восстание в Аранхуэсе, которое заставило Карла IV отречься от престола и привело Годоя к краху. Туристы слушали внимательно, искренне желая узнать что-нибудь новое. Я покинул их и продолжил путь, поскольку проголодался, и мне пришло в голову, что лучше бы попасть в ресторан у реки раньше, чем туда прибудет толпа. Я выбрал столик на балконе, выходившем на Тахо, и заказал холодную спаржу с майонезом, жареную камбалу, еще спаржу, на этот раз горячую, в масле, и наконец ту мелкую дикую землянику, что растет в здешних рощах. Попивая белое вино из Риохи, я подумал, что Тахо выглядит весьма величественно, неся свои воды к Португалии. Француз за соседним столиком говорил о Годое. Бедный Годой, проклятый долгой жизнью, как Вечный Жид, оставшийся одиноким и обедневшим в парижской квартире; загадка для соседей, которые считали его старым актером, — возможно, они не так уж и ошибались. Дети в парке любили его и называли «мсье Мануэль». Он испил до дна горькую участь человека, пережившего своих современников. Даже его «Мемуары», которые, как он думал, потрясут мир, не вызвали сенсации, поскольку то, что было столь важно для него, уже перестало быть интересно: они принадлежали мертвому прошлому. Пожалуй, подумалось мне, надо бы подсказать французу, что, если хорошенько поискать на кладбище Пер-Лашез — в той его части, что известна как L’Ilot des Espagnole [21] Испанский квартал ( фр .).
, — там найдется скромная могилка человека, который когда-то правил Испанией.
Далеко за полдень я поехал обратно в Мадрид.
Глава четвертая
Толедо, арабы и евреи
На автобусе в Толедо. — Собор. — Дурная слава Аны Болены. — Могила дочери Джона Гонта. — Толедские клинки. — Арабское вторжение в Испанию. — Месса по мозарабскому обряду. — Ричард Форд.
§ 1
Испанец стоял на моих ногах, а на руках я держал маленького ребенка: иными словами, автобус был почти битком набит. Каким-то удивительным образом все новые люди ухитрялись втиснуться внутрь, сдавливая тех, кто уже и так стоял, еще теснее и ближе. Маленький брат ребенка, которого держал я, сначала ютился возле меня в проходе, но теперь его оттеснили вперед, и маленькое скорбное личико утонуло в саржевом море.
Передо мной сидели две монахини в огромных чепцах крахмального льна, только куда более архитектурных, чем обычные: они действительно выглядели наследниками тех сложных крахмальных головных уборов средних веков, вроде hennin [22] Эннен ( фр .) — очень (зачастую чрезмерно) высокий головной убор с длинной, иногда до пола, прозрачной вуалью; вуаль могла закрывать и лицо. Каркас делался из накрахмаленного полотна или твердой бумаги, обтягивался шелком или другими дорогими тканями. Волосы, выбивавшиеся из-под эннена, выбривали, оставляя лишь маленький треугольник на лбу. Введен Изабеллой Баварской в 1395 году; видоизменяясь, просуществовал почти столетие.
или шпилей, которые вздымались вверх, отклонялись назад или вниз в бесчисленных вариациях на протяжении пятнадцатого века, стяжая упреки с амвонов и комплименты трубадуров. Эти чепцы были созданы не для маленьких автобусов, но для просторного мира широких врат, и я с восхищением отметил, сколь искусно, в силу привычки, носили их монахини — словно кошки, которые точно чувствуют размах своих усов, осознавая до долей дюйма, какое движение головой можно сделать, чтобы не вызвать аварии. Забавная мысль: капризный головной убор, родившийся задорным и кокетливым, наконец упокоился на головах монахинь.
Читать дальше