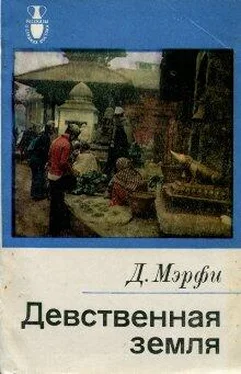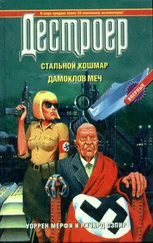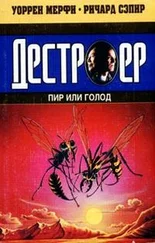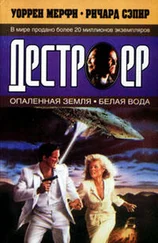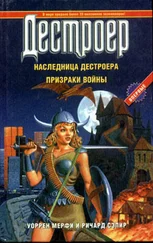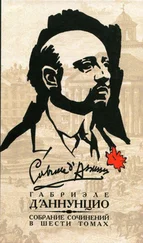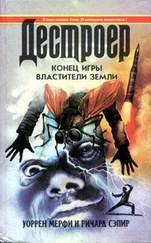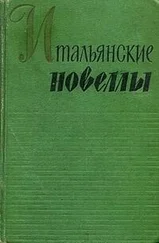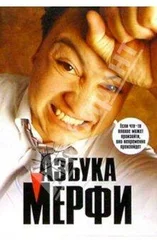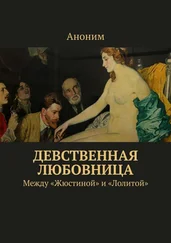Следующими двумя пациентами были дети (Кэй лечила их от тяжелой формы дизентерии, однако они не поправлялись, потому что матери никак не желали отнимать их от груди).
Дава снова впал в транс, который был ужаснее первого, и хотя «вселение духа» не вызвало словесного взрыва, монах метался по хижине, размахивая бубном и колокольчиком, а один раз даже треснул меня по голове и без того шедшей кругом. Однако на сей раз никто не сбежал от такого проявления гнева духа. Все только ежились от страха и прикрывали глаза руками при приближении шамана. Очевидно, людей больше всего пугает выраженная словами воля духа — на меня это тоже больше всего подействовало, хотя испуг не совсем подходящее слово для обозначения того ощущения, которое обычно называют «мороз по коже». Дава неистовствовал минут десять. Внезапно он сел и затих: тело его перестало судорожно дергаться, смолкли стоны. После этого Дава приступил к исцелению детей.
Первый малыш получил то же лечение, что и Дрома, а второго, очень слабенького, подвергли длительному и сложному ритуалу. До сих пор лицо Давы было полностью закрыто маской (он приоткрывал лицо лишь тогда, когда плевал на пациента). Испуганная мать протянула ему голенького малыша, и тут Дава, откинув назад ленты, открыл ужасное лицо, которое в мерцающем свете костра казалось нечеловеческим. Внезапно он резко наклонился вперед (в тот момент он был похож на оскалившуюся собаку) и укусил ребенка за спину.
Дальнейший ритуал был еще сложнее. Дава прижал к спине ребенка концы грязных лент, свисающих с ритуального бубна, и стал энергично сосать их там, где они крепятся к бубну. После каждого всасывания он сплевывал в небольшую медную чашку, которую ему передал помощник, затем выпивал глоток воды из другой медной чашки (мне кажется, он не глотал эту воду, а держал во рту для следующего плевка). Так повторилось одиннадцать раз, после чего Дава с помощью медного диска проделал ту же самую процедуру «изгнания духа», что и с Дромой, потом он склонился над ребенком и положил голову ему на живот. Затем Дава вскочил, откинул маску назад, еще раз сплюнул в чашку и таинственным голосом сообщил, что причина болезни находится в чашке, и все могут ее увидеть. В ответ раздался шепот восхищения и благоговения. Присутствующие, сгрудившись у чашки, заглядывали внутрь, а мать ребенка от радости плакала и смеялась одновременно. Меня снова ждало разочарование: «злой дух» выглядел как-то странно — в чашке лежал дохлый водяной жук.
Наконец Дава начал освобождаться от вселившегося в него духа. Отрешенность сменилась заклинаниями и музыкой, которая постепенно дошла до бешеного крещендо. Тут Дава резким движением руки отбросил в сторону колокольчик и бубен, а сам, обессиленный, рухнул на землю. Какое-то время тело его конвульсивно дергалось, он хрипел и стонал. Наконец Дава откинулся в изнеможении и затих. Его взгляд блуждал по хижине. Вид у него был усталый.
Атмосфера сразу же разрядилась. Перед нами снова оказался обыкновенный человек. С чарами было покончено. Помощник снова превратился в слугу и стал угощать нас чаем. Между тибетцами завязалась оживленная беседа. Дава медленно поднялся и вернулся на свое место. Он вежливо поздоровался с Кэй и со мной в обычной тибетской манере, хотя перед церемонией он и виду не подал, что узнал нас.
Откровенно говоря, этот «спектакль» не показался мне религиозным обрядом, хотя, признаюсь: мне повезло, что я его увидела. Правда, в последнее время ламы в лагере много молились над больными детьми и взрослыми, и эти церемонии производили большое впечатление. Обычно храмом служила какая-нибудь палатка, а алтарем — ящики из-под американских продуктов. На «алтарь» водружали столько масляных лампад, сколько может себе позволить семья пациента, сюда же ставили небольшие чашки с кровью петуха, рисом и мукой, фигурки богов (здесь их делают из теста, а не из масла) и традиционные конические торма.
Затем два или три ламы садятся к «алтарю» боком и, подкрепляясь чаем, приправленным маслом, проводят весь день за монотонным чтением буддийских молитв в сопровождении изумительных потусторонних мелодий, исполняемых на барабанах, колокольчиках и трубах из человеческой берцовой кости. Иногда подобные церемонии завершались отпечатыванием молитв на коже больного в пораженной области, для чего использовались деревянные «клише» [49] Ксилографический способ печатания при помощи деревянных досок с вырезанным текстом известен в этом районе с VII–IX вв., а наиболее ранние, дошедшие до нас тибетские ксилографированные тексты датируются XII в.; широко используется до настоящего времени, особенно для печатания буддийских текстов.
, с помощью которых изготовляются молитвенные флажки.
Читать дальше