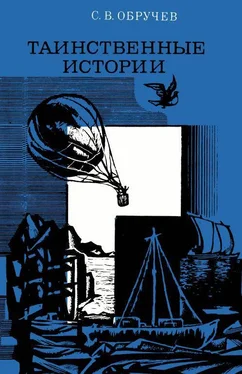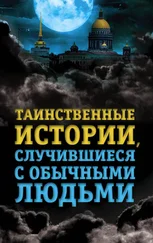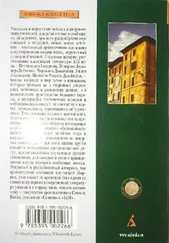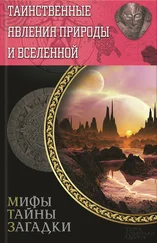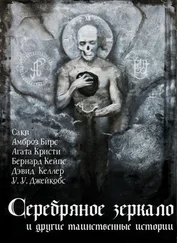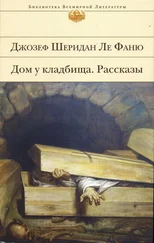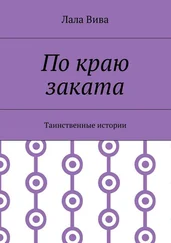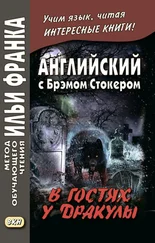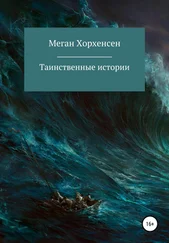К вопросу о национальности этой женщины и найденных остатках ее одежды мы еще вернемся.
Интересно остановиться еще на некоторых выводах, которые были сделаны после первичной обработки материалов 1940—1941 гг. Выводы эти, принадлежащие главным образом Б. О. Долгих, были опубликованы им в 1948 г., но после полной обработки всех археологических материалов они частью опровергнуты публикацией 1951 г. Прежде всего следует отметить предположение Б. О. Долгих о том, что русские прибыли не с Енисея или из Мангазеи, а прямо из поморских городов Европейской России. Цель похода — меховая торговля в устьях Хатанги и Анабара. Это предположение разобрано ниже. Затем ход экспедиции Б. О. Долгих рисует таким образом: «Морское судно (коч), шедшее на восток, в обход Таймыра, было около северо-западного берега северного острова Фаддея раздавлено льдами пли погибло, налетев на камни».
Непосредственной причиной гибели судна и высадки на острове Фаддея, по Б. О. Долгих, мог быть неожиданный напор льдов. Люди укрыли часть вещей и, когда замерзло море, перешли с саночками с острова на материковый берег в залив Симса. Вероятно, их было на коче шесть — десять человек, но не все они погибли при аварии; высадилось на остров не менее пяти — шести.
В заливе Симса построена избушка «для более слабых членов экспедиции, с тем чтобы остальные отправились за помощью».
А. П. Окладников опровергает этот вывод, указывая, что вещи на острове Фаддея были положены на каменную грядку для просушки, что к ним не успели вернуться; по-видимому, при последующей морской поездке экипаж судна погиб. Размещение вещей указывает, что это не запрятанный клад; нельзя считать также, что вещи выброшены морем с разбитого судна: они не группируются по весу, а расположены в общем по сортам — отдельно оружие, отдельно деньги и другие ценные предметы, отдельно меха. И только впоследствии вещи были раздавлены упавшими глыбами и вмыты вместе с морской галькой, которая иногда перемывалась морем и на этом высоком уровне. Несомненно, с этим анализом А. П. Окладникова надо согласиться, принять его выводы и считать, что экипаж коча погиб, не вернувшись на остров Фаддея из небольшого плавания.
Дальнейшие выводы Б. О. Долгих, касающиеся залива Симса, также вызывают сомнения. Он пытается установить, кто жил в избушке. Прежде всего слабым, не ушедшим с другими пешком, надо считать, по его мнению, кормчего — человека, несомненно, более преклонного возраста, но с большим знанием и опытом. Он был одновременно главой торгово-промысловой артели. В пользу этого, как считает Б. О. Долгих, говорит наличие большой суммы денег и доверенных ему компасов и солнечных часов; ему же принадлежат остатки кафтана из хорошего тонкого сукна; затем кортик, в который вложена жалованная грамота. Вторым погибшим в заливе Симса был малолетний сын или жена кормчего (если будет установлено, что погибла женщина). Но так как В. В. Гинзбург установил, что третий скелет в заливе Симса принадлежит женщине, сразу отпадает предположение Долгих — погиб не сын кормчего, а женщина. Конечно, она могла быть женой любого из двух русских, оставшихся в заливе Симса. Что касается некоторых сторон характеристики самого кормчего, то описание Б. О. Долгих также вызывает сомнение: во-первых, деньги и вещи могли принадлежать и другому мужчине — мы не имеем точного определения принадлежности вещей. Характеристика большого ножа как «кортика» оспаривается рядом исследователей; А. П. Окладников, например, пишет, что это простой нож. Что касается «жалованной грамоты», то А. П. Окладников возражает против такого определения: «жалованные грамоты» не пишутся на простои бумаге и ие прячутся в виде обертки ножа.
М. Ф. Косинский, которому принадлежит в сборнике 1951 г. очерк об оружии, указывает, что кортики появились в России только в XVIII в. Нож, который Б. О. Долгих называет «кортиком», — «один из видов русского поясного ножа XVII столетия» (1951, стр. 95). По поводу грамоты М. Ф. Косинский замечает, что «трудно найти более неподходящее место для хранения документа» (там же).
В. В. Гейман, разбиравший надпись на грамоте, указывает, что можно прочесть только отрывки двух слов: «жалов… г[м]оты»; он приходит к выводу, что, возможно, это грамота, но «странно, что начальник экспедиции засунул такой важный документ в ножны». Сомнения эти вполне оправданны: никто в XVII в. не осмелился бы носить жалованную грамоту в ножнах. Мы знаем, например, в делах Сибирского приказа Енисейский сыск 1660 г. о боярском сыне Федоре Усове, который «носит государеву грамоту» «не по чину — за голенищем, а доведется-де государева грамота носить и выше — за пазухою» (Оглоблин, 1895, т. 1, стр. 198). Эта грамота, кстати, оказалась «воровской», то есть поддельной. Очевидно, более небрежно можно было носить лишь простые грамоты, — например, «проезжие», которые воеводы давали торговым людям.
Читать дальше