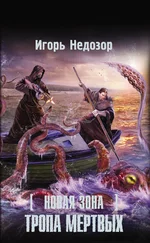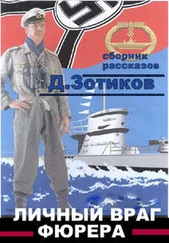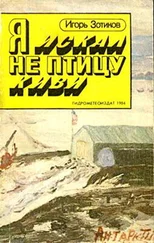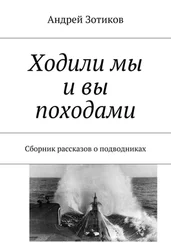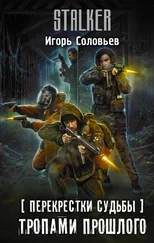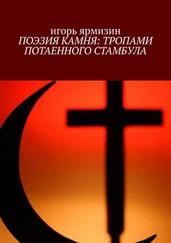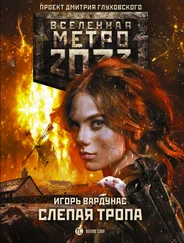Когда через несколько месяцев я вернулся в тихий корпус у Первой Градской — все было кончено. Врач-полковник, который тренировал нас, уже там не работал. Никто ничего не знал. Летная группа для полетов в стратосферу и космос перестала существовать. Говорили, что врач попал под суд. Оказывается, нам полагался какой-то особый «высотный» паек. Но мы никогда не видали его, и это было чьей-то ошибкой. Жалко, что все так кончилось. Нам ведь не нужен был паек, мы ведь по ночам разгружали вагоны, а за это хорошо платили картошкой.
Думая о событиях того времени сейчас, я считаю, что ошибки врача-полковника, может, и не было. Летная секция наша распалась по другим причинам, о которых мы тогда, конечно, и не подозревали. Шел 1947 год. Он был началом того периода резкого увеличения секретности, закрытости, который позднее стали называть эпохой «холодной войны». И конечно же свободные и открытые занятия ракетной техникой к космонавтикой в духе Общества по полетам в стратосферу стали первой жертвой этой войны. Это была первая причина. Ну, а о второй я узнал только недавно, из книги Владимира Губарева «Восхождение к подвигу». «В этот период группа ракетчиков во главе с М. К. Тихонравовым работала над проектом ВР-190 полета в космос на ракете (без выхода на орбиту вокруг Земли)… Для практического осуществления проекта ВР-190 группа проделала большую исследовательскую работу по обоснованию возможности надежного спуска человека с высоты 190–200 километров при помощи специально оборудованной высотной кабины, впоследствии названной ракетным зондом». К сожалению, в книге В. Губарева были и такие слова: «Было известно, что эта группа со своим проектом ВР-190 обращалась в ряд организаций, но не получила поддержки». Вот, оказывается, чем мы занимались в своем Обществе и вот почему все вдруг прекратилось!
Трудный был этот период для меня. Мечту о ракетоплавании пришлось оставить. Учеба в институте была запущена. Проект гибрида дизеля с паровой машиной никого не интересовал.
Все это вызвало бурную реакцию в моей семье. В результате я заявил родителям, что не нуждаюсь в их помощи и могу жить финансово самостоятельно. Но для этого надо было заняться разгрузкой товарных вагонов по ночам уже на систематической основе. Трудности, усталость, которые я испытывал, разгружая по ночам вагоны и стараясь не отстать от своих новых друзей, и перекрывали все, что я испытывал во время занятий альпинизмом. И я разочаровался в альпинизме, который вдруг стал казаться мне несерьезной игрой богатых баловней судьбы в сравнении с тем, что я делал, зарабатывая себе на жизнь.
На следующее лето я уже не поехал в горы и решил серьезно заняться авиацией.
И вот пришло время, когда я получил одновременно и диплом инженера, и пилотское свидетельство, но не пошел по «летному» пути. У меня не хватило чувства, что это моя дорога. Ведь она была такой необычной!
Меня распределили в опытно-конструкторское бюро, туда, где главным конструктором был Архип Михайлович Люлька — изобретатель первого в СССР реактивного газотурбинного двигателя. Он предложил свой двигатель еще перед войной, но его предложение затерли, забыли о нем и вспомнили только тогда, когда в самом конце Отечественной войны на фронте появились первые немецкие истребители с двигателями того типа, который предложил когда-то теперешний Главный.
Итак, я стал инженером-конструктором авиационной техники. Жил чертежами и грохочущими на испытаниях двигателями и был счастлив. Но однажды я вдруг узнал от друзей-альпинистов, что можно поехать с ними снова в горы, в альпинистский лагерь, что это будет «спортивная школа» и что поэтому, восхождения будут серьезными и такого типа, о чем мечтает каждый, кто когда-либо побывал в альпинистском лагере.
Я провел в составе этой спортивной школы сначала одно удивительное лето, потом второе. То второе лето не было для меня удачным. Сезон начался с ужасной холодной ночевки, когда мы сидели без палатки всю ночь на свернутой веревке на заснеженной скальной «полочке», свесив ноги в пропасть, а на следующий день пришли в лагерь уже со спасательными отрядами. И так пошло и пошло — все лето какие-то чепе, надрывы. А когда я вернулся обратно, оказалось, что со мной что-то случилось. Я начал болеть. Меня мучили постоянные простуды, головные боли. Прошло больше года, прежде чем я пришел в себя после надлома в горах.
За это время я прочитал много книг, которые раньше, когда я горел только своей работой, мне было некогда читать. И одна из них была «Жизнь во мгле» Митчела Уилсона — книга об ученом-атомщике Америки. И тут я понял, что должен снова пойти учиться. Мои институтские знания стали казаться мне просто смехотворными. Я поступил в аспирантуру: сдал экзамены, и меня приняли в лабораторию одного из институтов Академии наук СССР, которая занималась изучением процессов теплообмена. Моим руководителем стал профессор Евгений Васильевич Кудрявцев. Полтора года, почти каждый день, до глубокой ночи сидел я в библиотеках, занимался теорией, учился, и наступил день, когда я сдал кандидатские экзамены. Ну, а потом началась гонка эксперимента. Казалось, всем вдруг стало интересно узнать, что станет с конусом из легкоплавкого материала, если его вставить в горячий сверхзвуковой поток…
Читать дальше
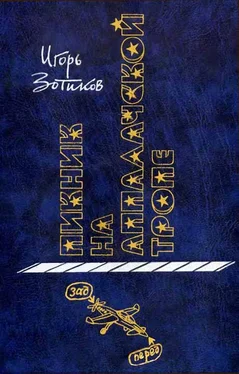

![Лесли Чартерис - Пикник на Тенерифе [Пикник на Тенерифе. Король нищих. Святой в Голливуде. Бешеные деньги. Шантаж. Земля обетованная. Принцип Монте-Карло]](/books/87044/lesli-charteris-piknik-na-tenerife-piknik-na-tenerife-korol-nishhih-svyatoj-v-gollivude-thumb.webp)