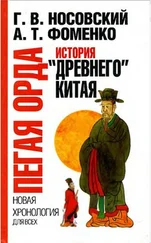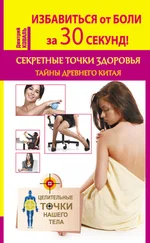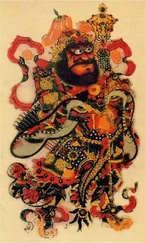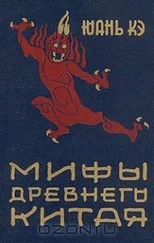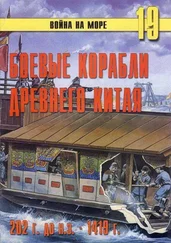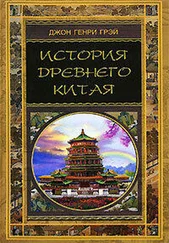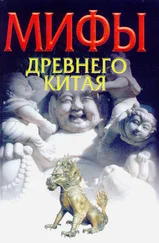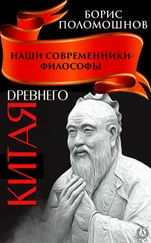Во времена Сражающихся царств и древнейших китайских империй политическая власть часто отделялась от посторонних глаз стеной и становилась невидимой или видимой только в форме стен и башен, служивших ее внешним воплощением. Это касалось в особенности правителей, которые ради собственного спокойствия и создания вокруг себя атмосферы духовной власти прятались от внешнего мира. В случае с первым китайским императором такое стремление к уединению и скрытности считалось признаком его тирании и мании величия. Но к началу эпохи Западной Хань образ императорской власти как скрытого или «запретного» для простого народа явления служил обычным и встроенным в пространственную организацию империи понятием. Власть прятали позади не одной-единственной стены, а целого каскада стен: городской, стен дворцового комплекса, стен самого дворца, двора и, наконец, стен внутренних палат. Проход через ворота каждой из стен тщательно охранялся, и движение к центру разрешалось все сокращающемуся числу людей. Власть и престиж обозначались способностью приблизиться к святая святых, которой служила приемная императора.
В то же время в Китае происходила пространственная структуризация по половой принадлежности, согласованная с внешней и внутренней придворной логикой. Однако как раз формально бесправные женщины занимали внутренние пространства, в то время как мужчин назначили во внешнюю публичную сферу 21. Тем самым китайский мир отмечался противоречивым набором отождествлений, в котором власть исходила из скрытых внутренних дворцовых глубин. А женщины как раз находились в этих глубинах, но их полагалось всячески отстранять от власти. Организационно-правовое выражение такого противоречия состояло в том, что власть втекала внутрь к невидимому императору, а вытекала наружу через чиновников мужского пола во внешнюю публичную сферу. То есть в руки женщин, их родственников и евнухов, разделявших их физическое пространство. Такого рода действительность, в которой существовал радикальный логический разрыв между формальными властными учреждениями и ее фактическим приложением, всегда служила источником потрясений и скандалов, несмотря на их регулярное повторение.
Такое пространственное упорядочение политической власти требовало от ее носителя сужения привлекаемого круга, сохранения тайны и истоков. Так как женщины проникли в самые глубины внутреннего мира императора и получили выход на самые важные тайны, а также, поскольку только они производили на свет наследников, их место внутри структуры китайского рода обозначалось одновременно запретом на власть и расчетом на них как на источник власти. Они располагали скрытой властью, однако властью никем не признанной. Каждый раз, когда существование такой скрытой власти доходило до публичного сознания, негодованию не было предела.
Дети в жизни древних Китайских империй
Впервые к теме детства как предмету сознательного литературного отражения китайские философы обратились в период правления династии Хань 22. Несколько авторов литературных произведений империи Западная Хань – Цзя И, Дун Чжуншу и Лю Сян – писали об «эмбриональном воспитании» как средстве воздействия на нравственное развитие ребенка на самой ранней стадии формирования его личности. Этой мыслью, впервые сформулированной в трактате времен Сражающихся царств под названием Го-юй и примененной ученым Цзя И в качестве средства обеспечения воспитания наследника императора, предусматривались условия, при которых его мать должна следовать надлежащему ритуалу во всем, что она видела, чем питалась, что слышала, говорила и делала на протяжении своей беременности. Если ее «стимулировали» добрым отношением, тогда ребенок получался удачным; если ей мешали вынашивать свой плод, он появлялся на свет ущербным. Такое повышенное внимание к решающей роли исходных условий формирования плода, вероятно, сложилось на основе постулата, содержащегося в трактате И-цзин и в трудах, посвященных военному делу, согласно которому любой процесс лучше всего познается с отправной его точки. При всей неясности того, насколько широкое распространение получила практика «эмбрионального воспитания», руководство по его применению, обнаруженное в захоронении Мавандуй и отнесенное к 168 году до н. э., указывает на то, что, по крайней мере, представители китайской элиты пытались ею пользоваться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу