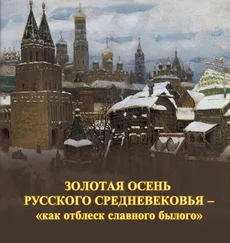Всякий раз, как мы пытаемся проследить судьбы людей по источникам тех времен, перед нами встают подобные картины бурно прожитых жизней. Вникнем, к примеру, в детали, собранные Пьером Шампьоном и касающиеся персонажей, которых Вийон либо упомянул, либо имел в виду в своем Testament [ Большом завещании ] 128, или же обратимся к заметкам Тюэте к Дневнику Парижского горожанина. Мы увидим судебные процессы, преступления, распри, преследования, и так без конца. И всё это – судьбы произвольно взятых людей, нашедшие отражение в судебных, церковных и иных документах. Хроники, подобные составленной Жаком дю Клерком, этому собранию злодеяний, или дневник Филиппа дё Виньоля, горожанина Меца 129, могут, конечно, рисовать картину этого времени слишком черными красками; даже lettres de rémission [акты помилования], которые воспроизводят перед нашим взором повседневную жизнь столь живо и точно, из-за своей криминальной тематики освещают исключительно лишь ее темные стороны. И всё же каждое свидетельство, извлеченное из любого произвольного материала, неизменно упрочивает самые мрачные представления об этой эпохе.
Это злой мир. Повсюду вздымается пламя ненависти и насилия, повсюду правит несправедливость; черные крыла Сатаны покрывают тьмою всю землю. Люди ждут, что вот-вот придет конец света. Но обращения и раскаяния не происходит; Церковь борется, проповедники и поэты сетуют и предостерегают напрасно.
ГЛАВА II
Желание более прекрасной жизни

Каждая эпоха жаждет некоего более прекрасного мира. Чем глубже отчаяние и подавленность в неурядицах настоящего, тем более сокровенна такая жажда. На исходе Средневековья основной тон жизни – уныние и усталость. Мотив бодрой радости бытия и веры в силу, способную к великим свершениям, – как он звучит в истории Ренессанса и Просвещения, – едва ли заметен в сфере франко-бургундской культуры XV в. Но было ли это общество более несчастно, чем любое другое? Иногда этому можно поверить. Где бы ни искать свидетельств об этом времени: у историографов и поэтов, в проповедях и богословских трактатах и, разумеется, в документах, – мы повсюду сталкиваемся с напоминаниями о распрях, ненависти и злобе, алчности, дикости и нищете. Возникает вопрос: неужели эта эпоха не знала радостей, помимо тех, которые она черпала в жестокости, высокомерии и неумеренности; неужели не существовало где-либо кроткого веселья и спокойной счастливой жизни? Вообще говоря, всякое время оставляет после себя гораздо больше следов своих страданий, чем своего счастья. Бедствия – вот из чего творится история. И всё же какая-то безотчетная убежденность говорит нам, что счастливая жизнь, веселая радость и сладостный покой, выпавшие на долю одной эпохи, в итоге не слишком отличаются от всего того, что происходит в любое другое время. Но сияние счастья, радовавшего людей позднего Средневековья, исчезло не полностью: оно всё еще живо в народных песнях, в музыке, в тихих далях пейзажей и в строгих чертах портретов.
Однако в XV в. восхваление жизни, прославление окружающего мира еще не превратилось в обычай, еще не стало хорошим тоном, если можно так выразиться. Тот, кто внимательно следил за повседневным ходом вещей и затем выносил жизни свой приговор, отмечал обыкновенно лишь печаль и отчаянье. Он видел, как время устремлялось к концу и всё земное близилось к гибели. Оптимизм, возраставший со времен Ренессанса, чтобы достичь своей высшей точки в XVIII столетии, был еще чужд французскому духу XV в. Так кто же всё-таки те, кто первыми с надеждой и удовлетворением говорят о своей эпохе? Не поэты и, уж конечно, не религиозные мыслители, не государственные деятели – но ученые, гуманисты. Ликование, вызванное заново открытой античной мудростью, – вот что представляет собою та радость, которую им дает настоящее; всё это – чисто интеллектуальный триумф! Столь знаменитый восторженный возглас Ульриха фон Гуттена: «О saeculum, о literae! juvat vivere!» – «О век! О словесность! О радость жизни!» – понимают обычно в чересчур уж широком смысле. Здесь ликует в гораздо большей степени восторженный литератор, чем человек во всей своей цельности. Можно было бы привести немалое число подобных выражений восторга, появлявшихся начиная с XVI столетия и прославлявших величие своего времени, но всегда обнаруживается, что касаются они почти исключительно возрождения духовной культуры и ни в коей мере не являются дифирамбами, воспевающими радость жизни во всей ее полноте; не говоря уже о том, что у гуманистов отношение к жизни характеризовалось умеренностью и уходом от мира, как то было свойственно еще древнему благочестию. Лучше этих так часто цитируемых слов фон Гуттена взгляды гуманистов раскрывают письма Эразма, написанные около 1517 г. Вряд ли они появились бы позже, поскольку оптимизм, заставивший вырваться у него эти радостные нотки, уже довольно скоро ослабевает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
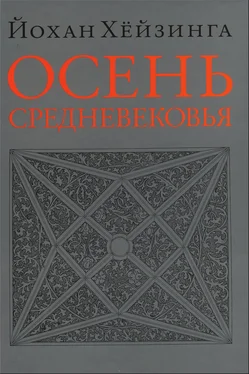


![Карл-Йохан Эрлин - Кролик, который хочет уснуть [Сказка в помощь родителям]](/books/405488/karl-thumb.webp)