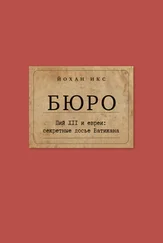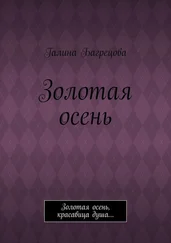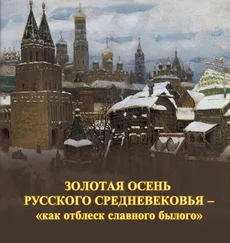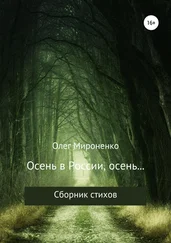Обратимся еще раз к картинам ван Эйка. Его искусство остается непревзойденным до тех пор, пока оно смотрит на вещи вплотную – так сказать, на микроскопическом уровне: на черты лица, ткани одежды, драгоценности. Обостренного видения вполне здесь достаточно. Но как только требуется запечатлеть видимую действительность вообще – что нужно при изображении ландшафта и зданий, – живопись, при всём очаровании всех этих ранних видов и перспектив, притягивающих нас своей душевной непосредственностью и искренностью, обнаруживает признаки слабости: как бы нарушение взаимосвязи и некоторую неумелость расположения. И чем сильнее намерение скомпоновать данное изображение – при том что в таком случае дело идет о создании более свободной образной формы, – тем явственнее проявляются недостатки.
Никто не станет отрицать, что в иллюминированных часословах календарные листы со сценами из Священной истории выполнены превосходно. Здесь можно было вполне удовлетвориться непосредственным наблюдением и живописным рассказом. Но для выражения значительного события или динамичного действия со многими персонажами необходимо было иметь, помимо всего прочего, такое чувство ритмического построения и единства, которым некогда обладал Джотто и которое вновь обрел Микеланджело. Сущностью искусства XV столетия было многообразие. Лишь там, где само многообразие превращалось в единство, мог быть достижим эффект высокой гармонии, как это было в Поклонении Агнцу. Здесь действительно присутствует ритм, ни с чем не сравнимый по силе, триумфальный ритм всех этих толп, шествующих к центральному пункту. Но найден он как бы чисто арифметическим сочетанием, за счет самого этого многообразия. Ван Эйк уходит от трудностей композиции, придавая изображаемому состояние строгого покоя; он достигает статичной, а не динамичной гармонии.
Именно в этом заключается то значительное расстояние, которое отделяет Рогира ван дер Вейдена от ван Эйка. Рогир ставит себе ограничения для того, чтобы отыскивать ритм; он не всегда достигает желаемого, но он стремится к нему.
Изображение основных сюжетов Священной истории должно было подчиняться строгой древней традиции. Художнику не требовалось самому изобретать расстановку фигур на своих картинах 1320. Иные из этих сюжетов как бы сами собой обладали ритмическим строем. Оплакивание Христа , Снятие с креста , Поклонение пастухов словно сами по себе были пронизаны ритмом. Не такова ли мадридская Пьета Рогира ван дер Вейдена или принадлежащие Мастеру авиньонской школы произведения на тот же сюжет в Лувре и в Брюсселе, а также работы кисти Петруса Кристуса и Хеертхена тот Синт Янса или миниатюра из Belles heures d’Ailly [ Прекрасного часослова д’Айи ]? 1321
В сценах более динамичного характера, как, например, Поругание Христа , Несение креста , Поклонение королей , трудности композиции возрастают, и в большинстве случаев результатом является некоторое неспокойствие и недостаток единства. Но когда иконографические каноны церковного искусства предоставляют художника самому себе, он оказывается совершенно беспомощным. Сцены отправления правосудия у Дирка Боутса и Герарда Давида, которые всё еще полны определенной торжественности, уже довольно слабы в композиционном отношении. Неловка и беспомощна живопись в Мученичестве св. Эразма ( het dermwinderken 1322) в Лувене и Мученичестве св. Ипполита (сцене разрывания лошадьми) в Брюгге. Здесь дефекты построения уже кажутся неприятными.
В попытках запечатлеть навеянное воображением, а не реально увиденное, искусство XV в. может доходить до смешного. Большую живопись предохранял от этого твердо установленный круг сюжетов, но книжная миниатюра не могла уклониться от запечатления бесчисленных мифологических и аллегорических фантазий, которые предлагала литература. Наглядный пример дают иллюстрации к Epitre d’Othéa à Hector 1323[ Посланию Офеи Гектору ], одной из причудливых мифологических фантазий Кристины Пизанской. Изображения настолько беспомощны, насколько только можно себе представить. Греческие боги наделены огромными крыльями поверх горностаевых мантий или бургундских придворных костюмов; общая композиция чрезвычайно неудачна: Минос, Сатурн, пожирающий своих детей, Мидас, раздающий награды, – всё это выглядит достаточно глупо. Но как только миниатюрист оказывается в состоянии отвести душу, изображая на заднем плане пастуха с овечками или холм с колесом и виселицей, он делает это с обычно свойственной ему искусностью 1324. Таков предел изобразительных возможностей этих художников. В сфере свободного воображения они в конечном счете почти столь же неловки, как и поэты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
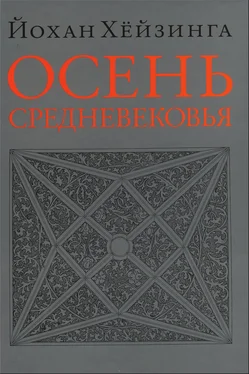

![Карл-Йохан Эрлин - Кролик, который хочет уснуть [Сказка в помощь родителям]](/books/405488/karl-thumb.webp)