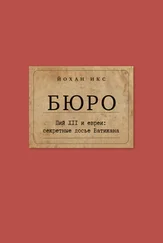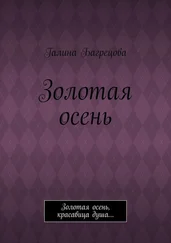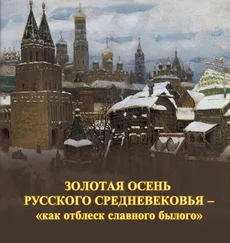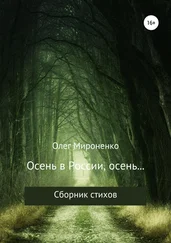Какова же была разница в степени реальности представлений о святых – и о чисто символических персонажах? Первые были утверждены Церковью, имели исторический характер и изображения в дереве или камне. Вторые были причастны душевной жизни людей, свободному полету фантазии. Можно с полным основанием усомниться в том, что Fortune и Faux-Semblant [Фортуна и Обманчивость] не казались столь же живыми, как св. Варвара или св. Христофор. И не будем забывать про один персонаж, который возник как бы сам по себе, вне какой бы то ни было догматической санкции, сделался более реальным, чем некоторые святые, и пережил их всех. Это образ Смерти.
Аллегории Средневековья и мифология Ренессанса, собственно говоря, друг от друга существенно не отличаются. Прежде всего, аллегорические персонажи на протяжении значительной части Средневековья уже выступали в сопровождении персонажей мифологических: Венера играет заметную роль в таком чисто средневековом явлении, какое представляла собою поэзия этого времени. С другой стороны, аллегория вполне процветает и в XVI столетии, и далее. В XIV столетии начинается нечто вроде соревнования между аллегорией и мифологией. В стихах Фруассара наряду с Doux-Semblant, Jonece, Plaisance, Refus, Dangier, Escondit, Franchise [Миловидностью, Юностью, Обходительностью, Отказом, Опасением, Скрытностью, Вольным духом) выступает странный набор порою до неузнаваемости искаженных мифологем: Атропа, Клото, Лахесис, Телеф, Водолей, Нептисфор 978! Боги и богини, однако, уступают в полноте воплощения аллегорическим персонажам Романа о розе ; они остаются пока еще полыми, призрачными. Или же делаются, словно теперь для них всё возможно, чрезмерно барочными и нисколько не классическими – как в Epistre d’Othéa à Hector [ Послании Офеи Гектору ] Кристины Пизанской. Наступление Ренессанса меняет это соотношение. Мало-помалу олимпийские боги и нимфы захватывают позиции Розы и театральных аллегорических персонажей 10*. Из сокровищницы древности устремляется сметающий всё на своем пути поток полноты стиля, чувства, поэтических красот, но более всего – единства с природой, и некогда столь живые аллегории тускнеют и исчезают. Символизм со своей служанкой аллегорией становится игрою ума; многосмысленное делается бессмысленным.
Символический метод препятствовал развитию причинно-порождающего мышления. Не то чтобы символизм полностью его исключал; природные, взаимопорождающие связи между вещами существовали наряду с символическими, но оставались без внимания, пока интерес не переместился от символов к естественному развитию. Вот пример, поясняющий сказанное. Для сопоставления духовной и светской власти в Средневековье установилось два символических сравнения: два светила, сотворенные Богом и помещенные одно выше другого, и два меча, которые были у учеников, когда пришли взять Иисуса Христа. Эти символы для средневекового сознания ни в коем случае не являются сравнением, которое не выходит за пределы чисто духовной сферы; они закладывают основу такого соотношения власти, которое не может уклониться от этой мистической связи. Эти символы обладали для воображения той же ценностью, что и уподобление св. Петра камню, положенному в основание Церкви. Непреложность символа стоит на пути изучения исторического развития как светской, так и духовной власти. Когда Данте признает такое изучение необходимым и решающим, он вынужден в своей Monarchia прежде всего подорвать влияние символа, оспаривая его применимость, – и расчистить себе тем самым путь для исторического исследования.
Проповедь Лютера обращается против злоупотребления в богословии произвольными, мелочными аллегориями. Он говорит о крупнейших представителях средневековой теологии – о Дионисии Картузианце, о Гильельме Дуранде, авторе Rationale divinorum officiorum [ Устава божественных служб ], о Бонавентуре и о Жерсоне, когда восклицает: «Эти аллегорические штудии суть занятие людей, пребывающих в праздности. Неужто вы полагаете, что мне стоило бы труда играть аллегориями по поводу любого создания Божьего? Да и сыщется ли где скудоумный, неспособный на аллегории!» 979
Символическое сопоставление было далеко не достаточным средством для выражения прочных взаимосвязей, как мы осознаем их порой, слушая музыку. – «Videmus nunc per speculum in aenigmate» [«Видим ныне как бы в тусклом зеркале и гадательно»]. Понимая, что взору представала загадка, ее тем не менее трактовали и так и эдак, пытаясь разобрать изображения в зеркале, объясняя одни образы посредством других и ставя зеркала друг против друга. Весь мир представал в виде самостоятельных персонажей: пора, когда всё уже отцвело, всё перезрело. Мышление стало слишком зависимым от воплощения в образах; зрительная сторона, столь важная для позднего Средневековья, сделалась всемогущей. Всё мыслимое было превращено в пластическое и изобразимое. Восприятие мира достигло состояния покоя – словно собор, залитый лунным сиянием, внутри которого мысль могла наконец погрузиться в сон.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
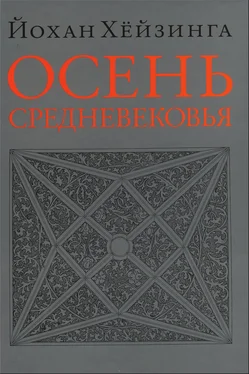

![Карл-Йохан Эрлин - Кролик, который хочет уснуть [Сказка в помощь родителям]](/books/405488/karl-thumb.webp)