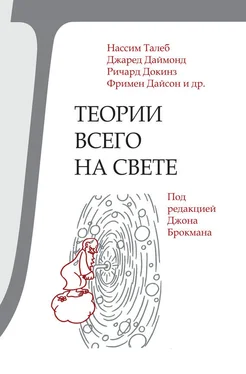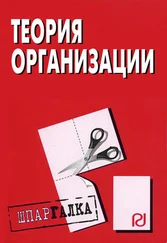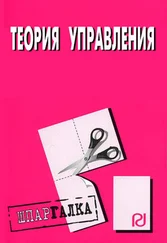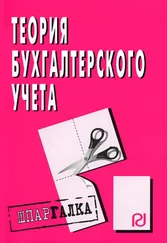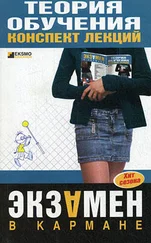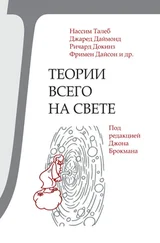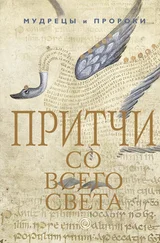Представление о теле как о механизме стало огромным шагом вперед в XVI веке, предложив альтернативу витализму и смутным концепциям жизненной силы. Теперь же этот взгляд устарел. Он искажает наше восприятие биологических систем, побуждая нас считать их более просто и разумно «сконструированными» по сравнению с реальным положением дел. Специалисты давно знают, что эта метафора неточна. Они понимают, что природные механизмы, регулирующие тромбообразование, лишь очень грубо и приблизительно представлены аккуратненькими диаграммами, которые заучивают студенты-медики: в системе тромбообразования большинство молекул взаимодействуют со многими другими. Специалисты по мозжечковой миндалине знают, что у нее множество функций, а не одна или две, и что сигналы от миндалины идут в другие области мозга через огромное число путей. Серотонин существует главным образом не для того, чтобы регулировать наше настроение и уровень тревожности: он играет ключевую роль в поддержании сосудистого тонуса, регуляции перистальтики кишечника и процессах отложения различных веществ в костях. Лептин – далеко не только «гормон жира»: у него много функций, и в разное время он выполняет разные (даже в одной и той же клетке). Увы, живые системы не похожи на машины. Ум человека способен интуитивно понять сложность живого мира не лучше, чем квантовую физику.
Последние достижения генетики дают возможность попытаться справиться с этой проблемой. Сейчас становится все очевиднее, что на большинство черт организма влияет не один ген, а множество, к тому же почти каждый ген влияет не на одну, а на несколько черт. Так, примерно 80 % случаев изменчивости такого параметра, как рост человека, относят к изменчивости генетической. Напрашивается вывод: ищите соответствующие гены. Однако этот поиск показал, что 180 локусов (местоположений гена в хромосоме) с наиболее сильным воздействием отвечают лишь примерно за 10 % случаев этой фенотипической вариативности. Недавние открытия в области медицинской генетики еще больше обескураживают. Всего лет десять назад мы очень надеялись, что вот-вот найдем генетические вариации, отвечающие за часто передающиеся по наследству заболевания и отклонения, такие, как шизофрения или аутизм. Но исследования генома показало, что для этих заболеваний не существует каких-то одних и тех же аллелей, которые обладали бы сильным эффектом. Некоторые говорят, что мы должны были знать это заранее. В конце концов, естественный отбор стремится устранять аллели, вызывающие болезни. Представление о теле как о машине заставило многих питать несбыточные надежды…
Отдельные нейробиологи ставят себе грандиозную задачу – проследить за каждой молекулой и биологическим маршрутом, чтобы охарактеризовать все физиологические цепи в нашем организме и окончательно понять, как работает мозг. Молекулы, локусы и нервные пути действительно выполняют отличающиеся друг от друга функции. Мы это знаем, и такое знание весьма важно для лечения людей. Однако, по-видимому, следует оставить надежды, что мы когда-нибудь поймем, как работает мозг, всего лишь нарисовав схему, где отображены все его компоненты, их взаимосвязи и функции. Проблема тут не только в том, чтобы уместить на одной странице миллион элементов. Главное в том, что никакая подобная диаграмма в принципе не в состоянии адекватно описать структуру органической системы. Такие системы – продукт мельчайших изменений (разнообразных мутаций, миграций, переноса генов и отбора), из которых постепенно складываются системы с не полностью дифференцированными частями и с непостижимыми внутренними взаимодействиями – системы, которые, тем не менее, работают очень даже неплохо. При попытках провести инженерный анализ мозговых систем основное внимание обращают на функциональную значимость, но этот подход грешит изначальной ограниченностью, ибо мозговые системы никогда никем не были «сконструированы».
Естественный отбор формирует системы, чью сложность невозможно описать в доступных человеческому уму понятиях. Кому-то покажется, что это нигилистический взгляд на вещи. Он действительно лишает нас надежд на отыскание простых и специфичных описаний для всех на свете биологических систем. Однако признание задачи безнадежно-сложной часто лишь служит толчком к дальнейшему прогрессу. Холдейн писал об этом: «… Структура живого организма по своему поведению не имеет реального сходства с поведением машины… В живом организме… “структура” является лишь видимостью, которую формирует то, что поначалу кажется нам постоянным потоком особого материала – потоком, который начинается и кончается где-то в окружающей среде» [72] Haldane, Organization and Environment …, 99.
.
Читать дальше