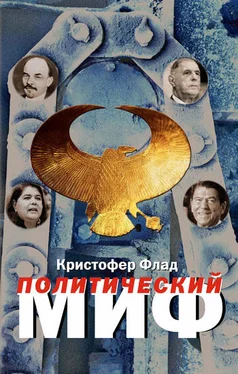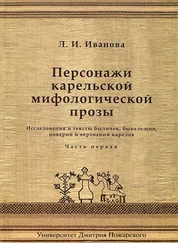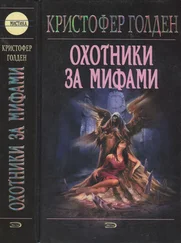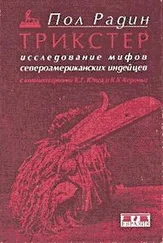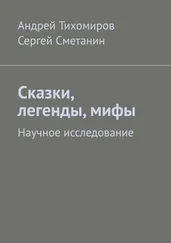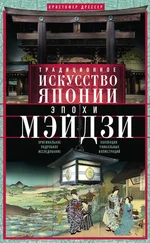Желая обосновать место политического мифа как явления, лежащего на пересечении теории священного мифа и теории идеологии, я начал книгу с обзора обеих этих теорий. В главе 1 рассматривается вопрос о сущности и влиянии политических идеологий. Естественно, теоретическая литература, посвященная идеологии, очень обширна и продолжает пополняться. При этом предмет ее не только многообещающ, но и неуловим. Например, внутри марксистской, неомарксистской, постмарксистской традиции существует многообразие подходов, равно как и в немарксистской науке.
Терри Иглтон (1991: 1–2) указал на существование шестнадцати марксистских и немарксистских определений предмета, используемых сегодня. Я не даю исторического обзора взглядов различных школ; моя цель – обрисовать определяющие черты того понимания идеологии, которая, на мой взгляд, является наиболее полезной для понимания идеи политического мифа. В этой книге я буду рассматривать термин «идеология» в нейтральном и широком понимании. Идеология – это как некая конкретная система политических представлений (таких, скажем, как анархизм или фашизм), так и общие черты, роднящие эти системы. Всякая система политических представлений будет рассматриваться как идеология. При этом я не намерен отдавать предпочтения какой-либо из этих систем или подходить к той или иной системе как к чему-то высшему по сравнению с идеологией.
Глава 2 открывается рассказом о теории священного мифа; это сделано для того, чтобы раскрыть важность рассмотрения политического мифа в контексте современности. Иными словами, эта глава обращается к формам и функциям мифов в религиозных культурах. Здесь читатель опять же не найдет исчерпывающего обзора многочисленных трудов разных научных школ, уделявших внимание этому предмету. Такой обзор, втиснутый в рамки одной главы, неизбежно получился бы и невыразительным, и поверхностным. Мой подход является синтетическим, ибо я разделяю взгляды исследователей, которые считают, что точки зрения различных школ являются не столько взаимоисключающими, сколько взаимодополняющими – невзирая на то, что их представители нередко утверждают обратное. Я стремился также выделить характеристики, которые точнее всего описывают политический миф или резче всего могут его опровергать. В заключительной части главы приводятся описания тех качеств политического мифа, которые связывают его как с политической идеологией, так и со священным мифом. В последующих главах рассматриваются примеры, на которых основана гипотеза.
В обыденном понимании миф – это рассказ о событиях, никогда не происходивших, или же некий символ веры, которому определенная социальная группа придала статус истины. Подразумевается, что сам создатель мифа не верит в него. Такое понимание восходит к традициям Древней Греции. В работах, посвященных истории архаических религий, рассказов о деяниях богов, слово «миф» соотносится с использованием языка как инструмента творческого воображения, и ему противопоставляется «логос». В этом понятии язык мыслится как инструмент размышления. В наши дни антропологи и историки религий пользуются более строгими определениями, в которых миф описывается с точки зрения стиля повествования, особенностей сюжета (подвиги богов или сверхлюдей), культурного статуса (священная истина в представлении данной общности людей), социальных функций (выражение религиозных верований, утверждение общественных ценностей и нормативов, обоснование социальных установлений и деятельности общественных институтов). Некоторые теоретики политического мифа следуют именно этой схеме в своих определениях этого феномена: особенности изложения, его предмет и персонажи, статус мифа как важнейшей для социальной группы истины, плюс его функции, которые можно назвать идеологическими – в моем понимании этого термина. Я также буду придерживаться этой схемы и при этом намереваюсь показать, что существующая литература не уделяет должного внимания такому факту: мифотворчество происходит на фоне сложных, меняющихся отношений между требованиями к цельности, солидности мифа, его идеологическому наполнению и его восприятию конкретной аудиторией в конкретном историческом контексте.
Как показано в главах 3 и 4. политические мифы следует рассматривать как со стороны их создания, так и со стороны восприятия, принимая во внимание то, что создатели (или пересказчики) мифов обычно являются в то же время и их адресатами. Некоторые теоретики подробно рассматривали вопрос о сознательно поставленных пропагандистских целях, которые сыграли большую или меньшую роль в появлении политических мифов. На этом же сосредоточивали внимание те исследователи, в задачу которых входило освещение реальности, стоящей за тем или иным мифом. Другие ученые относят веру в политические мифы за счет некритического к ним отношения и коллективного самообмана. Моя позиция основывается на следующем тезисе: нам не могут быть известны как подлинные намерения мифотворцев, так и истинные мысли тех людей, которым полагается в эти мифы верить; можно лишь строить сколько-то правдоподобные предположения, основанные на свидетельствах о словах и поведении создателей мифов и их аудитории. Конечно, можно привести множество примеров заранее просчитанной пропаганды, но даже в этих случаях настоящие мотивы и подлинные убеждения пропагандистов могут быть неочевидны. Равным образом, при определенных обстоятельствах, способствующих иррациональному поведению, кто-то может намеренно внедрять скептицизм и неверие. Тем не менее, часто оказывается возможно взглянуть на те или иные случаи под разными углами и прийти к разным объяснениям. Более того, разговор о том, что считать рациональным и иррациональным, предполагает скорее использование нормативов, а не объективных категорий познания, с которыми привыкли иметь дело теоретики. В данном вопросе я стою на позициях непредвзятости и призываю к самому пристальному вниманию к социальному контексту, в котором распространяется политический миф.
Читать дальше