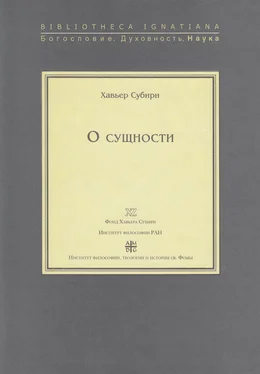В конечном счете, вещи суть, но «не» просто «суть». Это «не» есть сущность в ее чистой негативности. И в силу этого вещи «не» просто суть, «но» внутренне фундаментированы. Это «но» образует структуру сущности как чистой негативности: рефлективность бытия, явленность бытия, фундаментированность бытия. Внутреннее и структурное единство этих трех моментов и есть то, что́ Гегель последовательно понимает под сущностью: непереходное движение, движение интериоризации и экстериоризации. Будучи непереходным, оно не выводит нас из самой вещи, но есть самодвижение. Сущность – это не движущееся, но само движение интериоризации. Это движение есть движение мыслящее. Мысля вещь, я мыслю ее как «сущую»; но тем самым я «уже» мыслю ее вместе с интериорностью. Другими словами, мое конципирующее движение конципирует реальность, предконципируя ее как интериоризованную. Сущность дуба не есть ни один из трех моментов (семя, дерево, плод), взятых порознь, ни даже эти три момента в их процессуальном единстве. Наоборот, сущность есть нечто до-процессуальное. Становление и его моменты суть то, что́ они суть, именно потому, что представляют собой становление того, что «уже было» дубом. Назовем это «бытием-дубом». Что такое для Гегеля это предварительное бытие-дубом? Это не обладание формальными свойствами семени, или дерева, или плода; иначе говоря, это не значит быть как семя, как дерево или как плод. Но это и не «чистый» процесс, или «чистое» становление, ведущее от одного из своих терминов к другому. В самом деле, «чистый» процесс – это всегда «продвижение» от одного к другому, тогда как в жизненном цикле дуба (или любой другой вещи) речь идет о «продвижении», которое «уже» внутреннее «квалифицировано» (да простят мне это столь негегелевское выражение, употребленное ради ясности). Это такая квалификация, в силу которой процесс внутренне является «дубовым» (если можно так выразиться) процессом, а не, скажем, процессом «собачьим». Этот внутренний характер процесса как такового и есть именно то, что Гегель понимает под «бытием-дубом»: это и есть «сущность» дуба. Для Гегеля он квалифицирует становление не вследствие того, что «приходит-от» некоторого термина или «идет-к» некоторому термину; напротив, это характер, который предопределяет формальную природу каждого из трех терминов. Процесс завершается в желуде, или в его части, или распространяется на дерево, потому что этот процесс уже в самом себе – «дубовый». Дуб «сначала» есть семя, «потом» – дерево, «в конце концов» – плод, но он «всегда» бытийствует как одно и то же: как дуб. Стало быть, бытие-дубом предопределяет эти его три момента. Это – внутреннее движение, самодвижение, внутренний и непереходный динамизм реальности. Таким образом, сущность есть внутреннее определение бытия, то, что́ мы с необходимостью мыслим, мысля бытие: его внутренняя предпосылка. В этом состоит его истина: сущность – это радикальная истина. И наоборот, бытие, то есть вещь в ее становлении и со всеми ее метами, есть не что иное, как «проявление» (Erscheinung) сущности, ее интериорности. И в этом состоит ее истина: реальное бытие – это фундированная истина.
Итак, сущность для Гегеля – это истина, фундирующая бытие. Поэтому раскрыть сущность чего-либо означает концептуально, умозрительно выстроить предпосылки его реальности: вновь- породить вещь. Соответственно, сама реальность есть нечто «полагаемое»: «полагание» бытия как сущностного, или формальное конципирование. Такова вторая стадия формального конципирования: реальность как «полагание», как сущность.
Но это – странное «полагание». Ведь, «полагая» сущность как предпосылку становления, разум ничего не прибавляет к ней, а лишь отчетливо конципирует то, что, не ведая о том, он уже конципировал, конципируя становление. Интериоризация – это некоторого рода припоминание. Теперь же разум вынужденно отдает себе в этом отчет: он «знает», что сущность есть нечто предконципированное, то есть мыслит, каким образом сущность служит моделирующей основой для и внутри конципирующего акта разума. Это тип конципирования Гегель назвал идеей: идея – это выраженное и формальное понятие самого понятия как общего конципирования реальной вещи. Такова третья и окончательная стадия реализации разума. На этой стадии разум мыслит сам себя как чистое формальное мышление; это – мышление мышления, а значит, мышление всецелой реальности как «понятия» разума. В таком вхождении разума в самого себя, в таком самоконципировании, мы находим заключительный термин хода конципирования: будучи взят как идея, разум, мысля вещи, мысляще реализует сам себя как абсолютную реальность, единственную и радикальную. «Идея являет себя как мышление, которое есть чистое и простое тождество с самим собой, но которое, чтобы довлеть себе, в то же время есть деятельность. В ней разум ставит себя перед лицом себя (как чего-то иного), чтобы, пребывая в этом ином, пребывать лишь в себе самом» (Encykl., § 18). Мышление, разум, – это идея в себе и для себя; природа – это сама идея в ее инобытии; дух – это идея, которая из своего инобытия возвращается для себя в себя. Как таковая, эта реальность идеи есть не что иное, как Бог: νόησις νοήσεως [мышление мышления], самомышление, называл ее Аристотель, Метаф. А, 1072 b 18–30. И в § 777 «Энциклопедии философских наук» Гегель буквально и на языке оригинала воспроизводит весь этот аристотелевский пассаж как синтез своей собственной философии.
Читать дальше