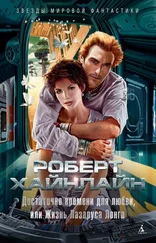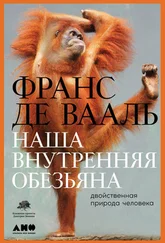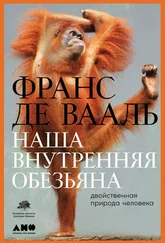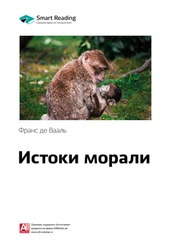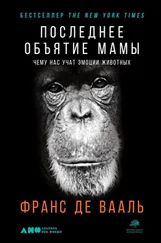Что касается Аюму, то теперь пришла очередь огорчиться психологам. Несмотря на то, что Аюму сейчас оперирует бо́льшим количеством чисел, а его фотографическая память справляется с ними за меньшее время, пределы его возможностей до сих пор не установлены. Но этот шимпанзе уже опроверг представление, что любая, без исключения, проверка интеллектуальных способностей доказывает превосходство человека. Дэвид Премак выразил эту мысль так: «Люди обладают всеми познавательными способностями, это их главное качество, в то время как животные, напротив, обладают ограниченными способностями, и каждая из них представляет собой приспособление к конкретной задаче или деятельности» {170}. Другими словами, люди – это единственный яркий луч света на темном интеллектуальном небосводе природы. Все остальные виды для удобства объединяются в общее понятие «животные» (не говоря уже о «неразумных тварях» или даже «нелюдях»), как будто между ними нет никакого различия. Это мир, поделенный на «нас» и «их». Как однажды сказал американский приматолог Марк Хаузер, изобретший слово «гуманикальность»: «Полагаю, однажды мы придем к мнению, что различие в познавательных способностях человека и животных, даже шимпанзе, больше, чем различие между шимпанзе и жуком» {171}.
Вы правильно прочитали: насекомое с таким маленьким мозгом, что его не видно невооруженным глазом, приравнено к примату с центральной нервной системой, которая хоть и меньше, чем наша, но совпадает с ней до мельчайших деталей. Наш мозг почти в точности такой же, как у человекообразных обезьян, – от отдельных областей, нервов и нейромедиаторов до желудочков и системы кровоснабжения. С точки зрения эволюции заявление Хаузера не выдерживает никакой критики. Из общей картины выпадает только один вид из трех – жук.
Эволюция заканчивается в голове человека
Концепцию, противостоящую эволюционному пониманию природы, следует, называя вещи своими именами, обозначить как неокреационизм . Неокреационизм не следует путать с теорией разумного замысла , которая просто представляет собой старый креационизм в новой упаковке. Неокреационизм труднее поддается определению, так как признает эволюцию, но лишь ее половину. Его центральная установка состоит в том, что мы произошли от обезьян, но лишь наше тело, а не разум. Проще говоря, эволюция остановилась у нас в голове. Эта идея широко распространена как в общественных, так и в гуманитарных науках. В соответствии с ней наш разум настолько оригинален, что сравнивать его с каким-либо другим разумом следует, только чтобы подтвердить его уникальность. Зачем беспокоиться о том, что могут другие виды, если наши способности буквально не поддаются сравнению? Это сальтационистское (от лат. saltus – скачок) представление основывается на убеждении, что произошло нечто важное после того, как мы отделились от обезьян. Предполагается, что какое-то резкое изменение случилось несколько миллионов лет назад или в более близкое время. Пока это чудесное событие скрыто завесой тайны, оно удостоено особого наименования «гоминизация», одновременно с которым упоминаются слова «искра», «разрыв» и «пропасть» {172}. Очевидно, что ни один современный ученый не отважится упомянуть «искру Божью», не говоря уже об особом «сотворении», но религиозную основу этой концепции трудно отрицать.
В биологии идею, что эволюция закончилась у нас в голове, называют парадоксом Уоллеса. Альфред Рассел Уоллес – выдающийся английский натуралист, современник Чарльза Дарвина, который наряду с ним считается первооткрывателем эволюции путем естественного отбора. На самом деле эволюционная теория известна также как теория Дарвина – Уоллеса. При этом Уоллес, определенно не имея никаких возражений против эволюции, положил ей предел в человеческом разуме. Он настолько высоко ценил то, что понимал под человеческим достоинством, что был не в состоянии переварить сравнение с человекообразными обезьянами. Дарвин полагал, что все признаки носят приспособительный характер и хороши настолько, насколько необходимы для выживания. Уоллес придерживался мнения, что должно быть одно исключение из правила – разум человека. Для чего людям, ведущим обычную жизнь, мозг, способный создать симфонию или изучать математику? «Естественный отбор, – писал Уоллес, – мог снабдить дикаря мозгом, чуть более совершенным, чем у человекообразной обезьяны. А в действительности мозг дикаря лишь немного уступает мозгу среднего представителя наших образованных классов» {173}. Во время своих путешествий по Юго-Восточной Азии Уоллес проникся большим уважением к необразованным людям. Сказать, что эти люди «лишь немного уступают представителям образованных классов», означало сделать значительный шаг вперед по сравнению с расистскими представлениями того времени, согласно которым интеллект этих людей находился посередине между человекообразными обезьянами и белыми людьми. Хотя Уоллес не был религиозен, он относил избыточные возможности человеческого мозга к «невидимой Вселенной Духа». Ничто меньшее, по его представлениям, не объясняло человеческую душу. Неудивительно, что Дарвин был серьезно обеспокоен тем, что его уважаемый коллега призывает десницу Господню, хотя и в завуалированном виде. По мнению Дарвина, не было никакой необходимости в сверхъестественных объяснениях. Как бы то ни было, тень парадокса Уоллеса до сих пор витает в академических кругах, стремясь вырвать человеческий разум из когтей биологии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
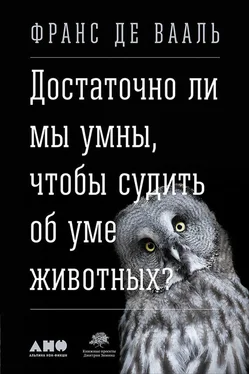

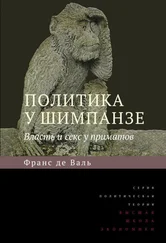

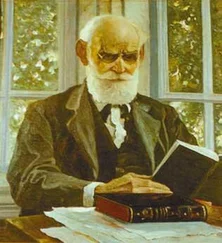
![Франс Вааль - Последнее объятие Мамы [litres]](/books/406055/frans-vaal-poslednee-obyatie-mamy-litres-thumb.webp)