Таков, на мой взгляд, политический урок. Если сопротивляться последствиям реальности, создаваемой всепроникающим структурным насилием – ведь бюрократические нормы словно растворяются в окружающих нас крупных, массивных объектах, в домах, машинах и прочих больших конкретных структурах, вследствие чего мир, регулируемый этими принципами, кажется естественным и неизбежным, а все прочее лишь беспочвенной фантазией, – то воображению можно будет вернуть силу. Но это требует огромной работы.
Власть делает людей ленивыми. Если наши теоретические рассуждения о структурном насилии что-то и показали, то именно это: хотя те, кто наделен властью и привилегиями, зачастую воспринимают их как тяжелое бремя ответственности, по большей части власть – это все то, о чем допустимо вообще не заботиться и не думать. Бюрократия может демократизировать такую разновидность власти, по крайней мере, до определенной степени, но она не способна от нее избавиться. Власть обретает форму институциональной лени. Революционные изменения пьянят, потому что разбивают оковы, сдерживающие воображение, и позволяют понять, что невозможное перестает быть невозможным, но они еще и означают, что людям придется преодолеть лень, к которой они давно привыкли, и очень долгое время заниматься интерпретативным (творческим) трудом для того, чтобы уничтожить эту реальность.
В последние два десятилетия я потратил немало времени на размышления о том, как социальная теория может содействовать этому процессу. Как я уже подчеркивал, саму по себе социальную теорию допустимо рассматривать как радикальное упрощение, разновидность просчитанного незнания, способ надеть шоры так, чтобы обнаружить модели, которые до этого никто не мог разглядеть.
Я пытался расставить ряд маркеров, которые позволят нам увидеть другое. Поэтому я и начал свой очерк именно так, с описания бумажной волокиты, сопровождавшей болезнь и смерть моей матери. Я хотел привнести социальную теорию в те сферы, которые, как кажется, настроены к ней враждебно. Есть мертвые зоны, которые обволакивают нашу жизнь, области, которые настолько лишены какой-либо интерпретативной глубины, что отталкивают любую попытку придать им ценность или значение. Я обнаружил, что есть пространства, где интерпретативная работа не действует. Неудивительно, что нам не нравится о них говорить. Они отталкивают воображение. Но я также верю в то, что мы обязаны взяться за эти пространства, потому что, если мы этого не сделаем, мы рискуем стать пособниками того самого насилия, которое их создает.
Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. В нынешней социальной теории есть тенденция к романтизации насилия, то есть к тому, чтобы представлять насильственные действия как способы посылать драматические сигналы, играть с символами абсолютной власти, очищения и страха. Я не хочу сказать, что это совершенно неверно. Большая часть насильственных действий также является – в данном случае в буквальном смысле – террористическими актами. Но еще я подчеркиваю, что благодаря сосредоточению на этих наиболее драматических аспектах насилия проще игнорировать тот факт, что одна из наиболее заметных черт насилия и создаваемых им ситуаций заключается в том, что оно очень скучно. В американских тюрьмах, которые являются чрезвычайно неприятными местами, самая порочная форма наказания заключается в том, что человека просто запирают на много лет в пустой комнате, где ему совершенно нечем заняться. Это исключение всякой возможности общения или смысла представляет собой самую суть того, что такое насилие и что оно делает. Да, отправить кого-то в одиночную камеру – это способ послать сигнал ему и другим заключенным. Однако смысл этого действия состоит в основном в уничтожении возможности посылать какие-либо сигналы в будущем.
Одно дело сказать, что, когда хозяин сечет раба, он совершает по-своему осмысленное коммуникативное действие, выражающее требование беспрекословного подчинения и в то же время пытающееся создать ужасающий мифический образ абсолютной и произвольной власти. Все это так. Совсем другое дело – утверждать, что только это и происходит или только об этом мы и должны говорить. В конце концов, если мы не будем изучать, что на самом деле означает «беспрекословность» – способность хозяина оставаться в неведении относительно того, как раб воспринимает различные ситуации, неспособность раба сказать что-либо, даже если он узнаёт о каком-нибудь грубом изъяне в рассуждениях господина, вытекающие из этого слепота или тупость, которые вынуждают раба тратить еще больше сил на то, чтобы понять и предугадать путаные мысли хозяина, – разве мы не будем, пусть и в меньшем масштабе, тоже заниматься чем-то сродни порке? Здесь речь не идет о том, чтобы дать слово жертвам. В конечном счете мы говорим об участии в процессе, который затыкает им рот.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
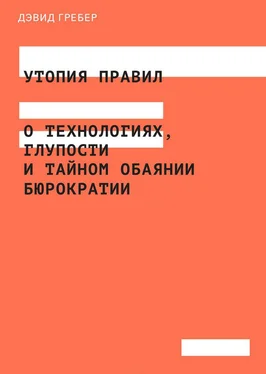



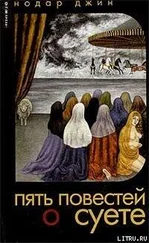




![Дэвид Гребер - Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres]](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-thumb.webp)


