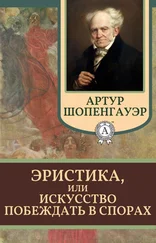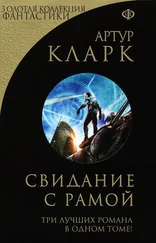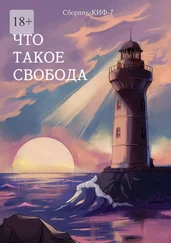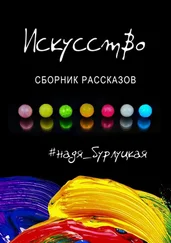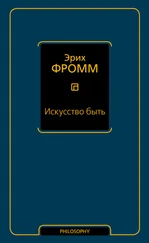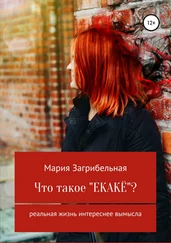Для всех нас жизнь началась одинаково – с полной беспомощности и универсального младенчества. Философ Ричард Воллхайм пишет в своей замечательной книге «Живопись как искусство» о творчестве Виллема де Кунинга:
Ощущения, которые культивирует де Кунинг, во многих отношениях – самые фундаментальные в числе тех, что мы испытываем. Эти ощущения открывают нам доступ во внешний мир и, повторяясь, навсегда привязывают нас к тем элементарным формам удовольствия, к которым мы через них приобщаемся. Они первичны как для накопления знания, так и для формирования желания человека. Картины Де Кунинга насыщены младенческим опытом: сосанием, ощупыванием, кусанием, отрыгиванием, хватанием, размазыванием, сопением, барахтаньем, агуканьем, качанием, увлажнением.
Есть в этих картинах ‹…› и еще одно напоминание. Они напоминают нам о том, что вначале весь этот опыт был угрожающим. Заряженный возбуждением, он грозил смести хрупкие барьеры сознания, которые пытались его сдержать, и утопить наше незрелое, неустойчивое Я.
* * *
Мир, согласно удивительно наглядной характеристике Воллхайма, впервые познается младенцем как пластичный кусок глины заданной формы – насколько речь тут вообще может идти о какой-либо форме – через его взаимодействие с этим миром. Мы впервые непосредственно соприкасаемся с ним при помощи пальцев, ртов и внутренних органов, и он очень отличается от интегрированной (если использовать в качестве более-менее знакомого примера слово из классической физики) математической системы, включающей в себя соотношения массы, длины и времени. Но в западной философии – в противоположность теологии – младенцы не играли никакой роли. Ранние эмпирики предполагали существование пути от простых ощущений к научным представлениям, – и как чудесно то, что все мы действительно начинаем приблизительно так, как утверждает Воллхайм, а затем, через лет двенадцать, достигаем способности понимать теоретическую механику. Однако, в отличие от усвоения родного языка, обучение классической физике чудесным отнюдь не кажется. Ребенок одной моей студентки родился глухим, и она, будучи философом, вместе со своим мужем мучительно билась над тем, чтобы ее ребенок, лишенный какого-либо доступа к звуковой информации, усвоил язык. Но хорошо известно, что даже на основе минимального притока информации дети способны воспринять и верно усвоить грамматику; действительно, когда я встретился с ее дочерью, которой к тому времени было уже два с половиной года, она смогла спросить меня, хочу ли я попробовать китайский суп с клецками. Авторы, подобные Локку, начинали не с такой глубокой инстинктивности, о которой говорит Воллхайм, – скорее с так называемых пяти чувств. Но, по моему общему впечатлению, даже если содержание неонатального опыта, представляющее собой бульон из запахов, боли, тепла, противодействий и отдач, по своим физиологическим характеристикам и совпадает с описанием Воллхайма, всё же, возможно, существует врожденная способность к структурированию, которая позволяет нам очень быстро придавать опыту некую стандартную форму, а не просто в нем погрязать. Упоминаю же я инстинктивную феноменологию Воллхайма потому, что в его рассуждениях действительно ценным представляется то, что основания наших знаний о внешнем мире предполагают вступление в него через посредство такого тела, какое изображено на полотне Мантеньи и подразумевается де Кунингом.
Как-то раз на факультете когнитивных исследований, когда я говорил об идеях Воллхайма, мне показали поразительный видеоролик. Мужчина, держа на руках младенца десяти минут от роду, открывал и закрывал рот, и младенец, подражая ему, делал то же самое. Мужчина высовывал язык – и младенец повторял его действие. Подражание было настолько точным и естественным, что казалось, будто ребенок и взрослый играют в одну из языковых игр Витгенштейна, только без слов, – как будто, открывая рот, мужчина давал младенцу команду делать то же самое. Если реконструировать логическую структуру, которая связывает людей и их рты, то получится, что новорожденный приходит в этот мир оснащенный впечатляющими мыслительными ресурсами, а также своего рода языком мысли, который позволяет ему, среди прочего, сделать вывод, что он должен показывать язык в тот момент, когда это делают другие.
Этот ролик настолько сильно расходится со словами Воллхайма, что нам следует заключить: философ использует слово «знание» в том же смысле, какой подразумевается в Библии, – например, когда в ней говорится об Адаме, познавшем Еву. Его интерпретацию живописи де Кунинга можно назвать хорошей и даже гениальной, но с психологической точки зрения ее смысл ограничен тем значением, какое имеет страстное познание двумя любовниками тел друг друга или познание младенца, ощупывающего грудь матери. В чем состоит угроза, о которой говорит Воллхайм? Если вчитаться в его работы, то станет ясно, что он заведомо применяет ко всему психоаналитическую трактовку (которая действительно много для него значит), в то время как в описанном ролике мы видим, что младенец десяти минут от роду учится быть таким же человеком, как и все мы, посредством подражания: он усваивает язык жестов.
Читать дальше
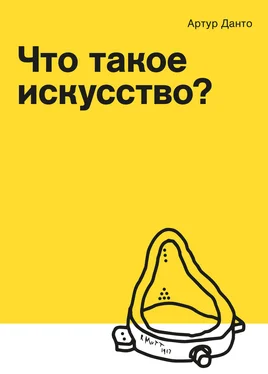

![Артур Кларк - Колыбель на орбите [сборник]](/books/58614/artur-klark-kolybel-na-orbite-sbornik-thumb.webp)