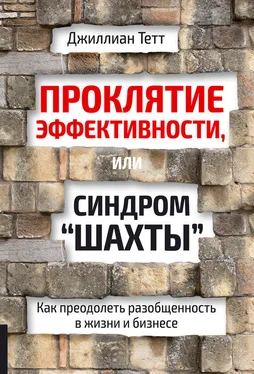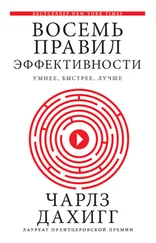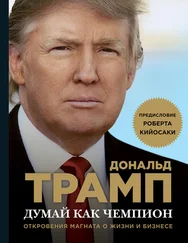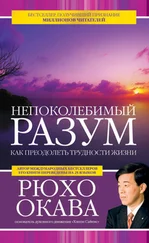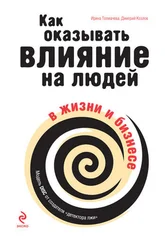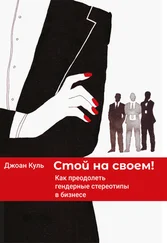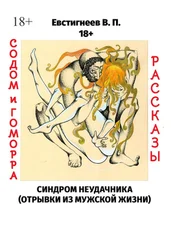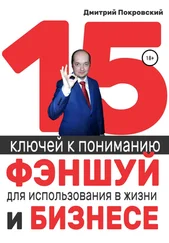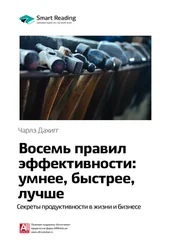По правде говоря, преимущества слома «шахтной» психологии оказались настолько очевидны, что Флауэрсу оставалось только удивляться, почему до этого никто раньше не додумался. Ведь специалисты в области статистики годами используют сложнейшие методики формирования выборок данных, и им ли не знать о корреляциях и не уметь их отыскивать? Почему никто до сих пор не озаботился сопоставлением баз данных из разных источников? Впрочем, ответ на свой вопрос Флауэрс знал еще до того, как сам его задал: система управления Нью-Йорком уродливо расчленена на множество автономных, узкопрофильных структур, выстроенных параллельно друг другу, как орудия в артиллерийской батарее, а в результате люди в упор не видят проблем и возможностей прямо у себя под носом. Иными словами, история скунсодельни – это ведь на самом деле не рассказ о статистике. Это поучительная повесть о том, как мы организуем наш мир: как структурируем данные, как выстраиваем функциональные подразделения, в какие рамки втискиваем собственную жизнь и собственное сознание. «Здесь все как-то фрагментировано. Трудно собрать все воедино. Вот когда получится, и результаты будут куда лучше… – заметил когда-то Флауэрс и подытожил: – Почему-то мало что получается – и все тут. Осталось выяснить причину !»
Парадоксальность взаимосвязанного мира
История правительства Нью-Йорка отнюдь не уникальна. Напротив, окинув взглядом современный мир, понимаешь, что человеческое общество XXI века примечательно поразительной парадоксальностью. Многие аспекты нашей жизни наглядно свидетельствуют о наступлении эры беспрецедентной взаимосвязанности всего и вся в единую систему во всемирном масштабе. Следствием глобализации и технологического прогресса стали: молниеносное распространение новостей; объединение производителей, продавцов и потребителей в цифровые цепочки создакния стоимости; а также быстрое распространение по всему миру идей (как полезных, так и вредных) и людей, пандемий и паник. Вот и выходит, что достаточно бывает малой встряски на биржевых торгах где-нибудь на задворках финансовых рынков, чтобы лавинообразно обрушилась вся мировая банковская система. Короче говоря, мы живем в мире, страдающем, по меткой формулировке экономиста Яна Голдина [35] Ян Голдин ( англ. Ian Goldin, р. 1955) – уроженец ЮАР, директор Оксфордской школы Мартина, профессор кафедры глобализации и развития Баллиол-колледжа при Оксфордском университете; в прошлом – замдиректора по развитию (2001–2003) и вице-президент (2003–2006) Всемирного банка.
, «дефектом бабочки»: мировая финансово-экономическая система настолько плотно интегрирована, что в любой момент может тяжело пострадать от малейшего локального потрясения [36] Ian Goldin and Mike Mariathasan , The Butterfy Defect: How Globalization Creates Systemic Risks and What to Do About It (Princeton: Princeton University Press, 2014).
. При этом, по не менее меткому наблюдению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард [37] Кристин Мадлен Одетт Лагард ( фр. Christine Madeleine Odette Lagarde, урожденная Лалуэтт [Lallouette], р. 1956) – директор-распорядитель Международного валютного фонда (с июля 2011 года); ранее – министр экономики и финансов Франции.
, «мир превратился в подобие пчелиного роя, где отдельных голосов в общем гуле не слышно. Безоглядная интеграция и всеобщая взаимосвязанность – определяющие приметы нашего времени» [38] https://www.imf.org/external/np/speeches/2014/020314.htm
.
Но в то время как мир все более сплетается в единый организм, живем мы по-прежнему разрозненно. Многие крупные организации делятся на подразделения, каждое подразделение – на многочисленные отделы, отделы – на подотделы, и все они не склонны не то что к сотрудничеству, а к элементарному общению между собой. Люди часто живут в «гетто», изолированных друг от друга ментально и социально, разговаривают и сосуществуют исключительно с подобными себе. Во многих странах наблюдается резкая поляризация в политике. Профессии становятся все более узкоспециализированными, что отчасти объясняется все большим усложнением технологий, понятных теперь лишь горстке экспертов.
Можно использовать множество метафорических образов для описания этого чувства разобщенности: прибегают к таким эпитетам, как «гетто», «клети», «кланы», «котлы», «ящики» и даже «дымоходы». Но для себя я нашла полезной метафору «шахта», как вариант трактовки английского существительного «silo». Слово «silo» этимологически восходит к древнегреческому существительному σιρός – «зерновая яма» [39] Оксфордский словарь английского языка (Oxford English Dictionary).
. Первоначальное значение сохранилось и до наших дней: в «Оксфордском словаре английского языка» [40] Там же.
читаем, что «silo» – это «высокая башня или яма, используемая в сельском хозяйстве для хранения зерна» [41] Там же.
. Однако в середине XX века западные военные приняли это мирное слово на вооружение и стали использовать его для обозначения шахт пусковых установок для стратегических ракет. Наконец, из профессионального военного жаргона понятие «шахты» было позаимствовано консультантами по управлению, придавшими ему еще один новый смысл: «система, процесс, отдел и т. п., работающие в изоляции от остальных» (по определению все того же «Оксфордского словаря»). Более того, в современном деловом английском активно используются и глагол «to silo» (дозировать, размещать в шахте), и прилагательное «silo-ized» (изолированный, разрозненный). Тут самое время сделать критически важное замечание, что слово «silo» может указывать не только на физические барьеры, например между подразделениями организации, но и на барьеры ментальные. Эффект «шахты» – это любое строгое разделение: функций, полномочий и представлений. Оно существует и в нашем сознании, и в социальных группах. Такие барьеры порождают фракционность. Их верные спутники – узость взглядов и косность мышления.
Читать дальше