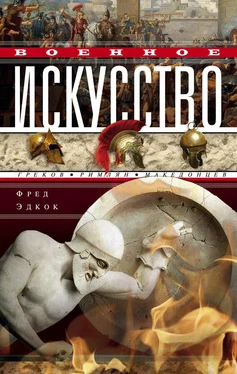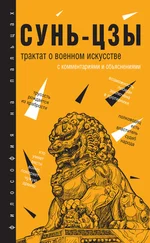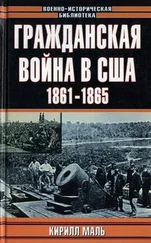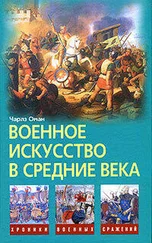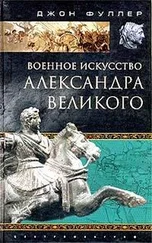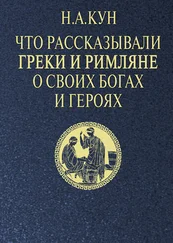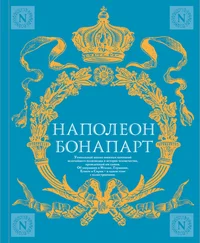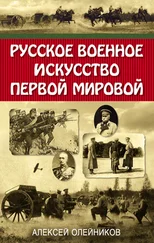В греческом военном искусстве применялся и другой аспект стратегии – связанный с использованием того, что мы сейчас называем «пятой колонной». Политическая борьба между различными группировками внутри какого-либо полиса, характерная для V, а чаще для IV века до н. э., позволяла его противникам надеяться на то, что они сумеют получить помощь от одной из сторон таких конфликтов, которую можно назвать оппозицией. Дело в том, что, если эта борьба была особенно ожесточенной, некоторые греческие политики и сторонники той или иной партии считали более предпочтительным отдать город в руки врагов, чем своих политических противников. К примеру, накануне Пелопоннесской войны фиванская армия встретила в приграничном городке Платеи некоторых его жителей, готовых признать фиванцев и сделать так, чтобы их город перестал быть союзником Афин и плацдармом для военных действий на территории Беотии, а вместо этого заключил союз с Фивами, превратившись в Фиванский плацдарм для проведения операций на землях Аттики. Для реализации стратегических целей они отправили свои войска для проведения операций, которые им почти удались [268] . Однако подобные предприятия далеко не всегда оканчивались провалом. В частности, в IV веке до н. э. спартанцы с легкостью овладели крепостью Фивами с помощью одной из группировок, существовавших в этом городе [269] . Тот факт, что Аргос в годы, последовавшие за Никиевым миром, никак не мог выбрать между двумя формами правления – аристократической и демократической, – позволил осуществлять не только военную, но и политическую стратегию. Предпринимая свою смелую акцию против афинян на территории, находившейся недалеко от Фракии, Брасид, вероятно, рассчитывал на то, что в этих городах действует антиафинское движение, и его надежды вполне оправдались. Если осажденные города было сложно взять приступом, нападающая сторона нередко надеялась, причем, как правило, вполне справедливо, на предательство их жителей или, по крайней мере, на то, что среди них распространены пораженческие настроения. В своем труде, посвященном обороне городов, Эней Тактик, кажется, уделил внутренней угрозе такое же большое внимание, как и внешней [270] . Уловки, к которым прибегал Филипп Македонский для завоевания или нейтрализации интересовавших его государств изнутри, стали почти хрестоматийными и даже привлекли внимание поэта Горация [271] . Вторгаясь в Малую Азию, Александр прибегнул к весьма трезвой стратегии, проводя политическую пропаганду против тираний и олигархий, являвшихся сторонниками Персии. Одним из направлений стратегии, применявшейся в войнах его преемников, было оказание помощи благожелательно настроенным по отношению к ним группам и ослабление тех, кто выступал против них. Еще большую выгоду они получали, если им удавалось убедить ту или иную часть населения интересующего их региона изменить свои пристрастия и посеять в обществе семена раздора. Несмотря на это, правители реализовывали исключительно военную стратегию и предоставляли успеху на поле боя влиять на надежды и страхи обитателей греческих городов. Но даже при этих условиях в эллинистический период существовало освобождение особого типа, и те, кто получал его, могли примкнуть только к одной из сторон. Этот процесс происходил легче благодаря тому, что война была более гуманной и ограничивалась боевыми действиями между армиями. Этим проницательным стратегам не требовался Полибий для того, чтобы объяснить им: война не должна уничтожать плоды победы [272] , – и они согласились бы со словами Талейрана, сказавшего Наполеону, что в состоянии мира народы обязаны причинять друг другу только добро, а во время войны – нанести как можно меньше вреда [273] .
Диад охи и эпигоны, как и Филипп и Александр, пользовались еще одним преимуществом – они сами были не только собственными начальниками штабов, но и министрами иностранных дел. Им редко пользовались те, кто стремился решать судьбы греческих городов-государств. В аристократиях и олигархиях считалось, что власть следует передавать из рук в руки, в демократиях – что она зависит от воли народного собрания, а значит, ее можно разделить между военачальниками и убедительно говорившими ораторами и демагогами, порой соперничавшими друг с другом. Политика, проводимая спартанскими царями, была ограничена волей эфоров, а власть разделена между двумя равноправными правителями, которые могли придерживаться противоположных точек зрения. Полководцы, сражаясь на поле боя, иногда опасались превзойти или не оправдать ожидания членов совета или народного собрания, и из-за боязни провала они могли слишком спешить или медлить. Что произошло с афинскими полководцами после того, как первая, менее масштабная экспедиция на Сицилию стала предупреждением, которое Никий принял слишком близко к сердцу во время второго, более крупного предприятия? [274]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу