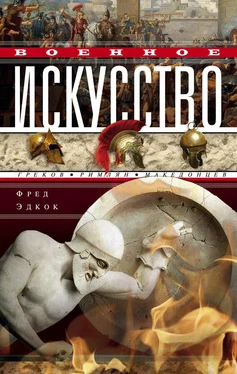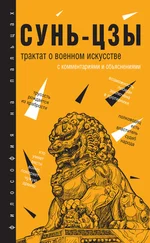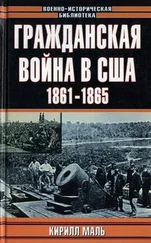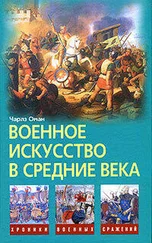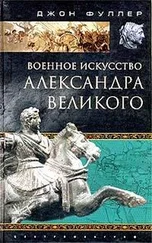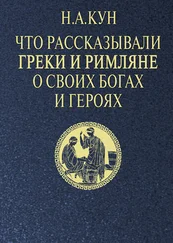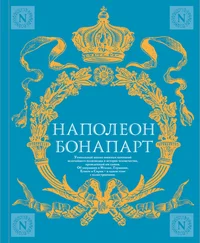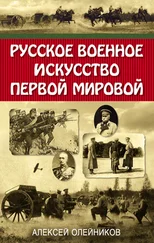Чем более хорошо обученными и управляемыми становились легковооруженные воины, тем более важную роль они начинали играть на поле боя. Некоторые военачальники использовали в сражении все виды войск. Это стало возможным потому, что легковооруженные наемники обладали большей маневренностью, чем фаланга граждан-гоплитов, и их действия можно было более точно просчитать заранее. Возможно, им не было свойственно воодушевление, характерное для солдат-граждан, о чем еще Аристотель писал в своей «Никомаховой этике» [150] . Но раз в вашем распоряжении имеется армия, состоящая из солдат, в которых сочетаются высокий профессионализм и национальный дух, а во главе ее стоит первоклассный полководец, то вы будете обречены на внесение изменений в военное искусство. Именно такая комбинация была характерна для войска Филиппа II, собранного им в конце первой половины IV века до н. э.
Однако до того как это произошло, в Греции появился солдат, внесший в тактику изменения, намного превосходящие все новшества, известные до этого в Элладе, – Эпаминонд. Его родной город, Фивы, всегда был менее консервативен, чем остальные греческие полисы, в вопросах, связанных с оснащением войск. Слава спартанцев позволяла им играть старые мелодии с испытанной годами виртуозностью. Афинянин Ксенофонт доказал в своих сочинениях, что греческую армию можно сделать очень легкоприспособляемой к конкретным условиям, и предложил способы улучшения техники ведения боевых действий. Но именно Фивы произвели на свет Пелопида, олицетворявшего редкое явление – талантливого командующего кавалерией, и Эпаминонда, человека, сумевшего изменить облик сражения между гоплитами посредством проведения реформы тактики, которую можно поставить в один ряд (если не выше) с достижениями Фридриха Великого (король Пруссии, правивший в 1740–1786 гг.; кампании, проведенные им во время Войны за австрийское наследство и в Семилетней войне, привели к значительному усилению его страны, территория которой к концу его правления удвоилась. – Пер. ).
Как и большинство других величайших военных нововведений, привнесенное им было простым, но в то же время требовало огромного мастерства. Эпаминонд должен был сражаться с войском, во главе которого стояли спартанцы. Он был совершенно уверен в том, что правое крыло вражеского войска будет состоять из отборных спартанских солдат. Те, в свою очередь, не сомневались: они получат преимущество на правом крыле, а затем, резко развернувшись, разобьют вражескую шеренгу. Они неоднократно проделывали это прежде и верили, что сумеют победить еще до того, как менее умелые союзнические войска, занимавшие их левый фланг и центр, проиграют бой. Эпаминонд построил своих фиванских гоплитов в глубокую колонну. Подобные прецеденты уже были – фиванцы поступали так и в других битвах, добиваясь при этом большего или меньшего успеха. Но военачальник пошел дальше: поставив ударную силу слева, он отодвинул остальную часть шеренги назад. Его колонна оказалась непобедимой и одержала победу до того, как его более слабые солдаты, стоявшие в центре и справа, проиграли сражение [151] .
Эпаминонду удалось одним ударом, сильным и неожиданным, доказать несостоятельность традиционного спартанского приема. Позволю себе привести несколько несерьезное сравнение: крестьянин попытался дать своей лошади лечебный порошок, вдувая его в ее рот, но хитрое животное выдохнуло первым. Если суть тактики заключается в необходимости сосредоточить максимальные силы в решающий момент, то во время битвы при Левктрах Эпаминонд использовал умелый и действенный тактический прием, которому до тех пор не было равных в истории военных действий. За одно непродолжительное столкновение вековая легенда о непобедимости спартанцев была развенчана, подобно тому как миф о всемогуществе испанцев был разрушен при Рокруа (произошла 19 мая 1643 г. в ходе Тридцатилетней войны между французами и испанцами. – Пер. ), а о непобедимости прусской армии – при Вальми (сражение состоялось 12 сентября 1792 г. во время войны Первой коалиции, ставшей частью Французских революционных войн; в результате его французским армиям удалось остановить продвижение прусского войска к Парижу. – Пер. ).
Теперь мне снова следует вернуться к рассказу о Македонии. Именно македонская фаланга олицетворяла собой вторую стадию развития пехоты. Местные крестьяне были превращены в боевую силу сразу после вступления на престол Филиппа II или незадолго до этого события. Македонская армия была царской, и ее сила заключалась во всадниках, которых называли товарищами правителя, другими словами, эта кавалерия состояла из придворных. Теперь же создавалась придворная пехота, так как входивших в нее солдат называли пешими товарищами царя. Их стали регулярно тренировать и разделили на батальоны, численность которых была достаточно велика для того, чтобы в случае необходимости они могли действовать независимо от других подразделений, но в то же время сражаться вместе в одной фаланге, что в древности было большим преимуществом. Они были вооружены более длинными копьями, чем те, которые использовали греческие гоплиты, и меньшими по размеру щитами [152] и не составляли глубокие колонны, так как были рассчитаны не столько на быструю атаку, сколько на равномерное наступление, которое осуществляли, выставив вперед острия копий, чтобы отбросить противника [153] . Рано или поздно должен был наступить день, когда фаланга оказалась слишком мощной, лишившись при этом адаптивности. Именно так и произошло. Затем копья, используемые воинами, стали чересчур длинными и мешали ее продвижению. Однажды во время битвы фаланга не смогла бы сформировать фланг или развернуть свои задние ряды. Если бы ее можно было перевернуть, она по уязвимости сравнилась бы с ежом, упавшим вверх ногами. Нужно было защитить ее фланги. Однако на ранних этапах своего развития она могла наступать, сохраняя более разреженный или более плотный строй, а ее разделение на батальоны, как говорили в те времена, «давало ей ноги». Продвигаясь вперед, фаланга могла смести врага, но в сущности ее следовало использовать иначе. В действительности она была лучше всего приспособлена для того, чтобы отрезать часть вражеской шеренги, в то время как кавалерия атаковала фланг или тыл противника. Это была не столько ударная, сколько сдерживающая сила. В войске Александра Македонского она была связана с кавалерией с помощью отрядов отборных воинов, гипаспистов, считавшихся элитными войсками.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу